Каждый раз перед боем боксер должен был проходить в клинике полное медицинское обследование. Последний раз у него вышел облом: Меган нашла в его моче следы крови, которые сигнализировали о том, что в почках имеется какая-то патология. У нее не было другого выхода, и она написала об этом в его медицинском заключении, после чего его не допустили к соревнованиям. Он был страшно разочарован, но принял приговор молча, как очередной удар судьбы. Большинство ее пациентов в таких случаях тут же начали бы кричать и скандалить. Но он был не из таких.
Теперь она смерила ему давление, проследила сердечный ритм, изучила сетчатку. Прослушала его голос на предмет хрипоты или глотания слов. А потом вручила ему маленькую пластиковую бутылочку.
— Нет проблем, — сказал он.
Меган испытывала к нему симпатию. Драться на ринге было для него единственным способом поддержать дочь. Но годы брали свое, бесконечные тренировки оказывались еще брутальнее, чем сами бои, и с каждым разом ему все труднее было проходить положенное медицинское обследование. Но что она могла поделать? Она должна была давать объективную информацию. Таков закон.
Боксер вернулся из туалета с мочой в пластиковой бутылочке. Меган взяла ее, чтобы написать имя, дату и подготовить к передаче в лабораторию. И застыла на месте.
Бутылочка была абсолютно холодной.
Меган взглянула на боксера. Даже несмотря на кофейного цвета кожу, было заметно, как тот покраснел.
Это была не его моча. В противном случае она была бы еще теплой. И Меган знала, что при анализе этой мочи в лаборатории в ней не обнаружат ни малейших следов крови.
Но она ничего не сказала, и пару дней спустя подтвердила, что боксер прошел обследование благополучно.
Потому что Меган начала понимать, что ради своего ребенка человек пойдет на все.
На все.
— Есть нечто, о чем я тебе раньше никогда не говорила, — сказала Джессика.
У нее не было ни малейших причин признаваться в этом. А уж сегодня ночью тем более. Вообще не было никаких причин ему об этом рассказывать — ни сегодня, ни когда-либо еще. Но Джессика чувствовала, что ее слишком тяготит этот секрет, который она держала в себе так долго. Ее муж имел право знать.
Паоло перекатился на свою сторону кровати и подпер голову рукой.
— Так что же это? — спросил он.
— У меня был аборт.
В слабо освещенной спальне повисло молчание. Это тяжелое слово «аборт» словно возвело между ними преграду. А потом Паоло постепенно начал понимать.
— Ты хочешь сказать… что? Ты хочешь сказать, что у тебя был аборт до нашей встречи? Еще до меня?
Она кивнула.
— Это было задолго до нашей встречи. Тогда я училась в школе. Мне было шестнадцать лет.
Он пытался осознать эту информацию. Факт аборта и его жестокую иронию. Женщина, которую он любил, которая больше всего на свете мечтала стать матерью, в прошлой жизни прервала беременность. Нет, это случилось в той же самой жизни, в какой она вышла замуж за него, Паоло.
— Зачем ты говоришь мне это теперь, Джесс?
— Я хочу, чтобы ты все понял. Это наказание за мой аборт.
— Наказание?
— Причина, по которой я не могу родить. Я однажды убила своего ребенка!
— Джесс, ты не права. Никакое это не наказание.
— Я разрушила себя изнутри. Я знаю, что это так. — Она говорила абсолютно спокойным голосом. Свое положение она обдумала давным-давно. И теперь должна была принять этот приговор как данность. — И ничьи слова не убедят меня в обратном. Это мое наказание. Я его заслужила. Мне очень жаль, что ты подвергаешься этому наказанию вместе со мной.
— Джессика… Это никакое не наказание. Просто так случается. Сколько тебе тогда было лет? Шестнадцать? Ты не могла тогда рожать — ты сама еще была ребенком.
— Кэт меня выходила. Отец вообще ничего не знал. Мы все устроили так, словно я поехала на экскурсию. И теперь я думаю: как я обошлась со своим телом? Я убила своего ребенка. И теперь мне приходится за это расплачиваться.
— Никакого ребенка ты не убивала, Джесс.
— А потом мы удивляемся, почему наши тела отказываются работать! Паоло, я не знаю, что со мной: то ли я подорвала свое здоровье, то ли Бог преподает мне урок.
— Бог не может быть таким жестоким.
— Но я твердо уверена, что все мои проблемы — все наши проблемы — начались именно тогда, в тот самый день. Это наказание. Как еще это назвать?
— Ты любила этого парня?
Ему очень хотелось ее успокоить. Искренне хотелось. Но в то же время в нем поднималась ревность: оказывается, кто-то еще обладал женщиной, которую он любил! По природе он не был жестоким человеком, но сейчас, попадись ему этот мужчина (не мужчина, а гнусный щенок!), он бы ему врезал как следует!
— Он учился в нашей школе. Был футбольной звездой. Все девчонки сходили по нему с ума. Не знаю, можно ли это называть любовью, но тогда мне так казалось. Прости, прости меня!
— Все нормально.
Паоло был тронут. Он не перестанет ее любить. Ничто не может заставить его разлюбить эту женщину. Их любовь не зависела от внешних обстоятельств и прочих условностей.
— Мы были вместе только один раз. И когда на следующий день я пришла в школу, оказалось, что он разболтал об этом своим друзьям, и все надо мной смеялись. Они говорили, что я шлюха, хотя он-то знал, что я была девственницей. У меня даже кровотечение еще не остановилось, а они надо мной насмехались.
Паоло обнял ее и прижал к себе.
— Я тебя люблю, — сказал он. — А тот парень был не достоин тебя, и никакого наказания тебе за это быть не может.
После признания Джессики прошли недели и месяцы, и Паоло заметил, что между ними что-то изменилось. Он боялся, что отсутствие ребенка в конце концов их разлучит. Но вместо этого они с каждым днем становились ближе друг другу. Теперь они старались держаться своего дома и людей, которые их хорошо знали. Потому что, стоило им выйти за пределы своей орбиты, даже для того чтобы проведать его родителей в Эссексе, как тут же начинались бессмысленные расспросы, которые задевали их за живое.
— И когда же вы, влюбленные пташки, наконец совьете настоящее гнездышко? — любила спрашивать его мать, обычно рассказав предварительно какую-нибудь умилительную историю из жизни своей внучки Хлои.
— У нас и так есть гнездо, ма, — раз за разом повторял ей Паоло, так что в конце концов она перестала спрашивать. — Мы семья из двух человек.
Поппи спала в своей кроватке.
Она занимала в ней совсем мало места. Лысая головка девочки с выпяченным лбом была чуть повернута набок, ручки подняты вверх, словно у тяжеловеса, который собирается взять вес, ладошки сжаты в миниатюрные кулачки. Никаких простыней в этой детской колыбельке не предусматривалось. Она была больше похожа на прочную сумку с углублениями для головки и ручек младенца — абсолютно безопасная и надежная, и тем не менее Меган никак не могла избавиться от страха: ей казалось, что ее дочь может умереть в любой момент.
Она сидела на кухне и пила ромашковый чай, третью ночь подряд без сна и отдыха, но даже в эти ночные часы улицы Хокни были полны народа: кто-то смеялся, вопил и дрался. И когда по лицу Меган потекли слезы отчаяния, она подумала: «Наверное, это и есть послеродовая депрессия. Неужели хоть одному мужчине знакомо такое состояние?»
Она была измучена до предела, до ужаса опустошена и чувствовала себя полной неудачницей. Впрочем, как иначе она могла себя чувствовать в такой ситуации? Разве кому-нибудь на ее месте удалось бы избежать депрессии?
Еще одним ударом по чувству собственного достоинства стало фиаско, которое она потерпела, пытаясь кормить грудью. Вначале Поппи была слишком мала, чтобы брать грудь. Она не могла делать сосательные движения. Но толстая, расплывшаяся медсестра из поликлиники, которая регулярно приходила осматривать малютку, заявила Меган (причем вела себя с ней нахально и снисходительно — это с ней-то, с будущим доктором!), что «младенчик» (какая фамильярность!) уже готов к тому, чтобы кормиться прямо «из матери» (пошла ты подальше, толстая корова!).
И Меган, которая прекрасно помнила зажигательные речи, которые сама же произносила перед будущими матерями района Санни Вью, в пользу вскармливания грудным молоком («полным питательных веществ и антител и совершенно бесплатным, ха-ха-ха!»), сама никак не могла наладить этот процесс. Казалось бы, нет ничего естественнее на свете, чем вскармливать свое дитя грудным молоком. Но Меган чувствовала себя так, словно ей приказали расправить крылья и полететь.
Разумеется, теорию вопроса она знала досконально. Изучила ее, так сказать, от «А» до «Я». Надо было захватить пальцами сосок вместе с ареолой и вставить его в ротик ребенка. Но когда она пыталась сделать это на практике, Поппи вела себя так, словно мать собирается ее придушить. Она начинала истошно вопить. Меган умоляла свою дочь, разговаривала с ней, снова пыталась вставить в ее ротик свой твердый, как камень, сосок, удерживая при этом мордашку Поппи, так что с головки девочки спадала шерстяная шапочка. Но ничего не получалось. Через некоторое время мать и дитя начинали дружно всхлипывать.
Ребенок вел себя так, словно нуждался в помощи Национального общества защиты детей от жестокости родителей. Будь она побольше, то наверняка бы доползла до телефона и позвонила по номеру экстренной службы спасения. И Меган сдавалась. Она брала бутылочку, боясь, что в противном случае дочь умрет от голода.
Ее жизнь изменилась кардинальным образом. Теперь она почти не спала. Она вспоминала, как в детстве ее отец делал дочерям мягкие выговоры, когда те слишком капризничали или не в меру шалили. «Я устал сверх меры», — говорил он им тогда. И вот теперь то же самое происходит со мной, думала Меган. Я устала сверх меры. Я даже не могу спать, потому что не знаю, когда раздастся новый писк с требованием подать бутылочку или покачать на ручках, или сменить пеленку.

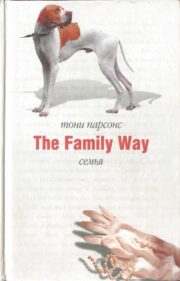
"Семья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Семья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Семья" друзьям в соцсетях.