Я засмеялась, довольная тем, что у Сьюэллен еще осталось чувство юмора.
— Помнишь, когда мы были совсем девчонками, ты говорила: «Обращайся с ними хорошо, но разносолами не балуй».
Она улыбнулась при этом напоминании.
— Да.
— Ну пахнет ужасно вкусно. Как будто я умерла, попала в рай, и мама готовит обед.
— Это не мамин обед. Это еврейская кухня.
— И когда это ты начала приобщаться к еврейской кухне?
— В последнее время я стала читать книги по еврейской кулинарии… просто так, для развлечения. Мне хотелось, чтобы Говард ел то, к чему привык с детства, чтобы он понял, что этот дом из стекла и дерева — это его дом. А дом — это то, где находится сердце, Баффи.
— О Боже! Перестань все обобщать! Будь поестественней. Так что все-таки у тебя в кастрюле? Когда я обмакнула палец, мне показалось, что вкус божественный.
— Это голубцы.
Я опять заглянула в кастрюлю. Пухлые капустные колбаски плавали в томатном соусе, сверкая блестками жира. Я опять сунула палец и отколупнула кусочек, слегка обжегшись. Сунула в рот.
— М-м-м! Горячо, но объедение!
— Ты сядь. Сейчас дам тарелку и нож с вилкой.
Я покачала головой.
— А что еще ты приготовила?
— Циммес.
— Что это за тиммес?
— Не тиммес, а циммес. Это сладкий картофель, морковь и чернослив. — Она открыла крышку кастрюли, и я опять сунула туда палец. — Подожди, — остановила меня Сьюэллен. — Сейчас дам тарелку. Садись.
— Нет. Между прочим, кисонька-лапонька, у нас дома такое готовилось. Только мама называла это морковным рагу.
— По-моему, ты ошибаешься. Мама предпочитала немецкую кухню.
Я покачала головой.
— Мне кажется, по вкусу это очень похоже. А ты как считаешь?
— Ну вообще-то сходство есть, — согласилась она и открыла дверцу духовку. Я заглянула внутрь.
— Ага. А это лапшевник, — торжествующе объявила я. — Разве не так?
— Да. Это кугель. С золотистым изюмом.
— А мама предпочитала черный изюм. Представляешь, я ни разу после смерти мамы не пробовала лапшевник. Дай мне рецепт. Может, сумею уговорить Ли приготовить его.
— Хочешь кусочек?
— Да. Только поменьше. Просто тонюсенький ломтик. Не хочу портить фигуру.
— От маленького кусочка ты не растолстеешь.
— О Господи! Ты говоришь прямо как еврейская мамаша. Или по крайней мере мне кажется, что так говорят все еврейские мамаши.
Как я и предполагала Сьюэллен отрезала мне здоровенный кусище, и я, со стенаниями, съела все до последней крошки.
— М-м-м, потрясающе, — заключила я, собирая вилкой последние кусочки.
— У меня есть еще говяжья грудинка.
— Хочу взглянуть.
— Она в холодильнике — охлаждается. Я потом сниму с нее жир, залью специальным постным соусом и положу в духовку, чтобы разогреть. Но давай-ка я тебе лучше покажу десерт.
Она протянула мне украшенный клубникой торт.
— Это тоже еврейский торт? — спросила я, стараясь не улыбнуться.
— Нет, мой любовный торт. — Она наклонила блюдо так, чтобы я смогла увидеть верхушку. Там было кремом написано: «Я люблю тебя, Говард».
— О Господи! — И я расплакалась.
— Что случилось? Ну я так и знала, что что-то не так!
— Все так, — возразила я, вытирая глаза кухонным полотенцем. — Просто растрогалась, только и всего. И торт прекрасный и чувства тоже. Старина Говард сегодня вечером будет ужасно доволен. Его ждет такой ужин! И еще торт! Но, Сьюэллен, Говард и без торта прекрасно знает, что ты его любишь.
— Это так, но ты же помнишь, как в том старом анекдоте: «Ведь хуже-то не будет».
— Нет, не знаю. Расскажи.
— Старый актер играет в какой-то еврейской пьесе, но ему становится плохо, и он умирает на сцене. Поднимается шум, тело уносят, на сцену выходит директор театра и говорит, что из-за смерти артиста спектакль продолжаться не будет. В зале встает пожилой еврей и возмущается. Директор ему говорит: «Просим прощения. Но человек умер, и мы ничего не можем поделать». Тогда этот старик советует: «Поставьте ему клизму». Директор в ответ: «Он умер. Она ему не поможет», но старый еврей замечает: «Да, но хуже ведь не будет!»
Я от души посмеялась и взглянула на часы.
— Уже почти три. Я пойду. Скоро придет школьный автобус с дочкой Кэсси, Дженни, и Мэтти. Ты знаешь, что они учатся в одном классе, и Дженни в выходные погостит у нас? Хочу убедиться, что все в порядке, и Дженни высадят там, где нужно.
— Но ты только что пришла. Почему бы тебе не позвонить Ли и не попросить, чтобы она их встретила? Тогда ты сможешь еще побыть у меня, ни о чем не думая.
— Ну хорошо. — Я набрала номер своего телефона, и после десяти гудков Ли сняла трубку. — Дома все в порядке? Дженни уже приехала? — Ли в ответ что-то буркнула. — Вот и хорошо. Скоро буду. — Я повесила трубку.
— А почему Дженни оказалась у тебя?
— Кэсси поехала в Паоло-Альто повидаться с Уином Уинфилдом.
— Это тот, который жил с ней по соседству?
— Угу.
Сьюэллен внимательно на меня посмотрела.
— А Дженни — это его дочь?
— Да, только никому об этом не говори.
— Совершенно не понимаю Кэсси. Она не живет с Гаем, причем уже довольно давно. А Уин — отец Дженни. И коли она поехала с ним повидаться, то, как я понимаю, она питает к нему какие-то чувства. Почему же она не разведется с Гаем и не выйдет за Уина замуж? Или, по крайней мере, не станет с ним жить?
— Потому что для других жизнь совсем не такая простая штука, как для тебя, Сьюэллен. У тебя всегда все было просто и понятно. Ты принадлежишь к немногим счастливчикам. Между прочим, а где мои племянники? Они скоро придут? Мне бы хотелось увидеть их.
— Ах уж эти детки! Они редко бывают дома. Пока они маленькие и ты привязана к дому, то, кажется, отдала бы все на свете за несколько свободных часов. А когда они вырастают и больше проводят времени со своими друзьями, чем с тобой, тебе ужасно не хватает их общества. Пити постоянно пропадает на репетициях оркестра, а Бекки — на уроках Закона Божьего.
— Закона Божьего? Какого закона? — Мы с Сьюэллен никогда не были особенно религиозными и редко ходили в церковь.
— Бекки собирается обратиться в иудаизм. Она сама того хочет.
— Сначала эта еврейская кухня, теперь Бекки собирается… Вы что, все собрались принять иудаизм?
Наверное, мои слова прозвучали нахально, слишком нахально, потому что Сьюэллен рассердилась.
— Никто не говорит, что я собираюсь принять иудаизм. Бекки выбрала для себя эту религию, и она сама так решила. И что в этом плохого? Что плохого в том, если и мы с Пити тоже примем эту веру? Хорошо, когда все в семье одной веры, и не имеет никакого значения, что это за вера. Лично я считаю, что для ребенка намного лучше ходить в религиозную школу, чем слоняться по Голливудскому бульвару, накачиваясь наркотиками.
В этом была вся Сьюэллен. Никаких полутонов. Черное и белое. Ей все было ясно в жизни. А у меня все так туманно. Я даже не могла понять, хочу ли в понедельник опять пойти в приемную Гэвина. Не стало ли это место слишком опасным?
Когда я приехала домой, то выяснила, что к ужину у меня больше народу, чем я рассчитывала. Меган привела свою подругу Фоун, которая тут же позвонила матери и попросила разрешения не только поужинать с нами, но и остаться на ночь. Ее мать великодушно согласилась. А Митч привел домой своего друга Хайана. Ему тоже разрешили остаться поужинать, но, к сожалению (смотря чьему), разрешения на то, чтобы переночевать у нас, он не получил.
В честь Фоун, Дженни и Хайана Ли приготовила тефтели с макаронами — не самое мое любимое блюдо — и накрыла стол в комнате, где мы обычно завтракали, приготовив тарелку и для меня.
— Ли, я буду ужинать в другом месте.
— Нет, вы никуда не пойдете. — Я молча ждала, чтобы Ли продолжила, поскольку, как я поняла, она что-то хотела сказать. — Звонил мистер Кинг. Вы с ним никуда сегодня ужинать не идете. Все отменяется. — Она полезла в карман и вытащила оттуда смятый кусочек бумажки. — Он сказал, что вы встретитесь с ним на простреле. В девять часов.
Я с недоумением посмотрела на нее. Простреле? Ах, наверное, на просмотре. Ну конечно же. Мы должны были встретиться с Даннами, поужинать с ними, а затем пойти на просмотр на площадку МГМ.
— Но здесь очень маленький стол, Ли. Мы просто не поместимся. Почему мы не ужинаем в столовой?
— Зачем? — возмущенно спросила она. — Чтобы они роняли макароны на тот красивый ковер? Вы этого хотите?
(Да, Ли, ты — мудрая женщина. Ты сразу видишь, когда женщина стремится к саморазрушению).
Я положила себе творога и присела с ребятами.
— А почему вы не едите тефтели с макаронами? — сердито поинтересовалась Ли. — Это не еда.
— Я на диете. А почему вы не пододвинете еще один стул и сами не поедите макарон? — спросила я ее.
Она крутилась вокруг стола, подтирая, подкладывая еще гарниру и следя за порядком за столом.
— Я уже ела.
Никто никогда не видел, чтобы Ли ела что-нибудь существенное. Я подозревала, что пока ее никто не видел, она беспрерывно поглощала сладости. Она имела на это право. В ее возрасте она имела право делать то, что хочется.
Митч и Хайан попытались положить себе большую часть содержимого миски с тефтелями.
— Эй, вы там, — обратилась я к Митчеллу. — Не будьте поросятами. Оставьте другим хоть немного.
— У нас растущие организмы, — отозвался Митч, выпендриваясь перед своим приятелем. — Нам нужно больше мяса, чем девчонкам. — И они с Хайаном громко загоготали.
— Хам, — отрезала Меган.
— Мне кажется, это тоже не очень-то вежливое слово, — заметила я.

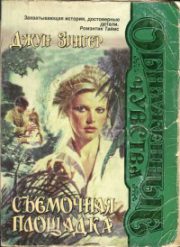
"Съемочная площадка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Съемочная площадка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Съемочная площадка" друзьям в соцсетях.