— Вас это так волнует, Луиза?
Что-то в его голосе, какой-то отзвук боли и желания заставил ее забыть и о его поцелуях, и о его руках, и даже о ее юбках, и сосредоточить взгляд на его лице.
Он не был прекрасен, ее Блейкс, не настолько прекрасен и соблазнителен, как Даттон, но он был поразительно мужественен, силен и умен.
А Луиза считала это гораздо более очаровательным и соблазнительным, чем любое прекрасное лицо. Глядя на Блейкса, она едва могла вспомнить смутный образ Даттона и совсем не могла восстановить то, что он говорил. Слова Блейксли украшали ее, подобно драгоценным камням, каждое предложение — золото, каждое слово — жемчуг юмора и проницательности.
Все было так очевидно. Наконец-то она все так ясно увидела, что заставила себя остановиться и подумать. Не слишком удобная привычка, которая, вероятно, не останется у нее надолго.
— Нет, — сказала она, глядя ему прямо в глаза, открывая ему доступ в тайны своего сердца, которое так долго было закрыто, защищаясь от Мелверли. — Мне все равно.
— Ожерелье у меня, вы же знаете, — сказал он, глядя на нее выжидающе.
— И с чем же вы будете носить его, Блейкс? — спросила Луиза, нежно улыбаясь.
— Я могу отдать его моей возлюбленной, — сказал он, подвигаясь к ней ближе, что было очень опрометчиво с его стороны.
Она могла напасть на него теперь в любой момент. Бедный Блейкс, он становился таким невнимательным из-за своей добродетели.
— Вы должны отдать жемчуга только той, кого любите, — прошептала она, притягивая его лицо ближе к своему и целуя его в краешек губ. — Отдайте их вашей матери.
Блейкс засмеялся, обволакивая ее своим смехом и обнимая руками.
— Нитка жемчуга должна, скорее всего, достаточно задобрить Хайда, чтобы он дал свое разрешение. Вы ему нравитесь, представьте себе, — сказал Блейкс, обнимая ее талию одной рукой и медленно задирая ее юбки другой. Наконец-то. — Хайду нравятся рыжие.
— Как и его сыну, — сказала Луиза.
— Как и его сыну, — повторил Блейкс и поцеловал ее.
Тоже давно пора.
Глава 25
Мелверли было совершенно ясно, как и всем в Королевском театре, что Луизу окончательно соблазнил и непоправимо опорочил лорд Генри Блейксли. Не совсем ясно было, как далеко зайдет это дело и, помолвившись с Луизой, женится ли он на ней.
— Должна признать это проявлением ностальгии, — сказала София, нежно взяв Мелверли за локоть, хотя его льняную рубашку давно пора было постирать, — именно в этом театре я утратила невинность с… Ну, я полагаю, будет очень неблагоразумно называть имена, даже по прошествии времени.
И она засмеялась, чтобы разрядить обстановку. Мелверли, как и ожидалось, озадачился.
— Вы же не хотите сказать, что потеряли… Но это невозможно, я ведь знаю, что вы были близки с Уэстлином еще до Даттона.
— О, дорогой, разумеется, я не имела в виду свое целомудрие в буквальном смысле слова, но мою добродетель именно в отношении Даттона. И по-моему, просто ужасно с вашей стороны называть имена. Конечно, Даттон мертв, но его сын здравствует, и вы знаете, какую боль испытывают дети, когда прошлое выставляется им напоказ. А теперь нас с Луизой это объединяет. Как это мило с ее стороны — потерять свою… О, но я думаю, что она потеряла это еще в той прекрасной гардеробной Хайд-Хауса. Я просто должна пригласить плотника взглянуть на мою гардеробную. Она совершенно определенно не служит делу в той мере, в какой могла бы.
Дальше последовало то, чего она ожидала.
Мелверли, который так любил ругаться, бушевать и грубо разговаривать везде, где только мог, заорал на весь театр, тотчас же получив настолько большой успех, что все актеры на сцене забыли о пьесе, чтобы наблюдать и слушать другое, несомненно, более увлекательное представление. Обратившись в сторону ложи Блейксли, он прокричал:
— Вы можете и должны жениться на девушке, Блейксли!
Блейксли появился возле перил, очаровательно взъерошенный, жилет был содран с него, волосы торчали ореолом разврата, и, улыбаясь, он протянул руку назад, чтобы вывести Луизу. Она выглядела как распутница, растрепанная и развратно распаленная. Они сначала улыбнулись друг другу, а затем Мелверли. И тут Луиза выкрикнула со звонкой четкостью через весь театр:
— Конечно, он должен, иначе у меня вообще никого не будет!
Театр взорвался аплодисментами и одобрительными восклицаниями. Это был один из тех редких моментов, когда хорошему юмору рукоплескал весь Лондон.
Руан наблюдал за Софией в ложе Мелверли и даже не пытался сдержать улыбки. Она сделала это. Он точно не знал что именно и почему, но ему был знаком ее теперешний довольный вид, говорящий: «я — сделала — все — как — хотела». Такой же вид у нее был, когда ее дочь была обесчещена Эшдоном, а сейчас София с тем же выражением наблюдала за Луизой Керкленд, обесчещенной лордом Генри Блейксли. Несомненно, Луиза теперь могла забыть о своей страсти к маркизу Даттону. Так просто!
Ничего не происходит просто так, без решительной помощи.
Как странно было наблюдать, с каким удовольствием София Далби помогала девушкам из хороших семей, например, собственной дочери, добиваться обесчещивания. Но невозможно отрицать очевидное.
Странной она была женщиной. София была обворожительна. Он хотел ее. Однако загвоздка была в том, что завоевать ее — очень непростая задача. Она была не из тех, кого можно было легко получить и с легкостью управлять. Зато София очень легко управляла другими, свидетельством чего были выходившие в данный момент из ложи Луиза Керкленд с абсолютно развалившейся прической и лорд Генри Блейксли.
Он не настолько горд, чтобы отказаться учиться у лучших, а Софию, бесспорно, можно относить к лучшим. Руан хотел ее. И намеревался добиться. Для этого нужно было только смотреть и учиться, София сама указывала путь. Именно с этой мыслью лорд Руан покинул театр.
Он пришел один и ушел также один, хотя уже начинал обдумывать, не стоит ли появиться с женщиной, чтобы наверняка привлечь внимание Софии.
Какая женщина взбесила бы ее больше всего? Он усмехнулся, так как это была самая смешная мысль из тех, которые забавляли его всю эту неделю.
Элинор наблюдала за индейцами у себя дома и испытывала такой восторг, что едва могла дышать. Самые настоящие индейцы у нее дома, и ей удалось как следует их рассмотреть. Все, что о них говорили, оказалось правдой.
Это была красивая раса. Абсолютная правда. Они были дикарями и в одежде, и в манерах. Тоже правда.
Они были скрытны и беспощадны. Очевидная правда, ведь они тайно проникли в ее дом и держали их в плену так, что даже никто из прислуги об этом не знал.
Великолепная работа. Она была глубоко потрясена. У Элинор и в мыслях не было, что они могут причинить ей физический или какой-либо моральный вред, потому что эти мужчины, такие дикие, были родственниками Софии Далби, а она была графиней, и, ей-богу, разве нужно остерегаться родственников графини?
— Хоксуорт, — понизив голос, сказала Амелия, чтобы ее никто не расслышал, хотя, конечно, ее слышали все, — сделай что-нибудь.
— Что ты предлагаешь? — поинтересовался Хоксуорт совершенно обычным голосом, что тотчас взбесило Амелию.
По наблюдениям Элинор, у Амелии с братом были особенные отношения. Амелия была спокойнейшей и тишайшей из всех женщин, в любой ситуации и в любом обществе. Разумеется, она была так же тактична и добра с Луизой. Пожалуй, Элинор лучше всех знала, насколько это сложно. А вот с Хоксуортом Амелия совершенно теряла дар самообладания и кротости. Конечно, Хоксуорт сильно раздражал, Элинор не могла с этим спорить, но Амелия полностью теряла чувство, юмора и терпимость в его присутствии.
У самой Элинор с Луизой было то же самое. Конечно, она искренне надеялась, что их отношения улучшатся, когда Луиза выйдет замуж, потому что тогда, очевидно, они будут видеться гораздо реже.
— Вы ее сестра, — обратился к Элинор один из индейцев.
Он был младшим из трех сыновей, и у него были самые поразительные голубые глаза. Его ноги как-то чересчур привлекали внимание, темная грудь ясно виднелась под распахнутой рубахой. Что ж, он был практически обнажен. Элинор не могла оторвать от него глаз. Слава Богу, она выросла в таких условиях, которые никак не стесняли ее исследовательских порывов. Она очень интересовалась индейцами в целом и этими — в частности. Особенно интересен был тот, кто стоял сейчас перед ней.
Он был очень, очень красив, как-то изумительно дико.
У нее даже мурашки побежали по коже.
— Чья сестра? — тихо переспросила она, потому что, исследуя что-либо, она не привыкла демонстрировать тете Мэри многообразие своих интересов.
— Другой рыжеволосой, — сказал он, — Луизы. У вас такие же волосы.
На самом деле ее волосы были не совсем такие; они были темнее, чем огненно-рыжие волосы Луизы, и совершенно прямые, в то время как волосы Луизы сильно завивались. Но, да, у них обеих были рыжие волосы. Она даже подумала, не может ли такого быть, что все рыжеволосые с белой кожей для индейцев на одно лицо.
— Леди Элинор Керкленд. А вы?
— Мистер Мэтью Грей, — сказал он.
— Но это же не ваше настоящее индейское имя! — выпалила она, потому что, и правда, разве не было бы так мило, если бы у него было такое великолепное имя, как, например, Быстрый Волк, Высокое Пламя или что-нибудь вроде этого?
— В самом деле? — спросил Мэтью, и потому, какими серьезными были его голос и выражение лица, она поняла, что он смеется над ней.
Странно, но, думая об американских индейцах, Элинор никогда не представляла, что у них есть чувство юмора, и, разумеется, в своих тайных мечтах, никогда не могла подумать, что американский индеец вздумает смеяться над ней.
Иногда реальность слишком разочаровывала.

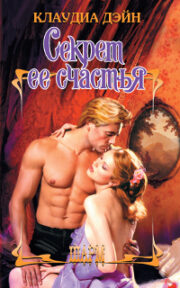
"Секрет ее счастья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Секрет ее счастья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Секрет ее счастья" друзьям в соцсетях.