— Теперь ты спрашиваешь?
Поль настаивал:
— Ведь была же у вас какая-то причина!
— Думаю, я был заинтересован твоими родителями.
И это было все, что Барней Биль захотел сказать по данному поводу.
Дни шли. Пьеса не сходила со сцены все лето и осень, и Поль, бывший в фаворе у дирекции, заключил контракт и на ближайший сезон. Однажды во время репетиции автор вставил в пьесу несколько строк, которые были поручены Полю, и он стал теперь настоящим актером. Джен уже больше не могла издеваться над ним в минуты дурного настроения (после чего всегда следовало горькое раскаяние), что он играет бессловесную роль, как дрессированная собака. У Поля была настоящая роль, переписанная на пишущей машинке, в обложке из коричневой бумаги, которую с полной серьезностью вручил ему помощник режиссера. Ввиду своего быстрого успеха он пытался убедить и Джен поступить на сцену, но у нее не было артистических претензий, не говоря уже о нежелании раскрашивать свое лицо. Она предпочитала прозаическую действительность машинописи и стенографии.
Для Поля никакая область не могла быть слишком ослепительной; он создан для великих дел, и сознание его высокой судьбы одновременно и заставляло Джен гордиться, и приводило в отчаяние, но что касалось самой Джен, то ее требования к жизни оставались скромными и трезвыми. Поль был рожден павлином и его удел — блистать сверкающим оперением. Она была скромной галкой и принимала как должное свое положение.
Следует сказать, что Поль предлагал Джен сценическую карьеру не столько потому, что верил в ее дарование, сколько из-за того общественного положения, которое могла дать ей сцена. Однако он, хотя и всячески обласканный девушкой, вместе с которой вырос, понимал существенную разницу между ней и собой. Она была самой милой, самой трогательной и услужливой галкой, какую он когда-либо встречал, однако молодой павлин ни на минуту не забывал, что она всего лишь галка.
Здравомыслие Джен принесло свои плоды следующей весной, когда ей пришлось самой заботиться о средствах к существованию. Ее мать умерла, лавчонка была продана, и тетка в Крикльвуде предложила Джен кров при условии, что она будет оплачивать свое содержание. Джен вскоре смогла выполнить это условие, найдя место в конторе в Сити.
Дело было трудное, а вознаграждение небольшое, но девушка обладала мужественным сердцем и высоко держала голову. По ее простой философии жить — значило работать, мечты же были случайной роскошью.
Смерть матери причинила Джен большое горе, потому что она была очень привязчива, а разлука с Полем казалась ей непоправимой катастрофой.
— Хорошо, что ты с ним покончила, — сказала ее тетка, — а то могла бы наделать глупостей из-за молодого актеришки с красивой рожицей. Я не доверяю этому народу.
Джен была слишком горда, чтобы отвечать.
В последний вечер, проведенный вместе на Барн-стрит, они сидели вдвоем в маленькой комнатке позади лавчонки, как привыкли сидеть все последние шесть лет. Это была единственная семья, какую имел Поль, и распад ее и он принял как трагедию. Они сидели за столом, на старом диване, набитом конским волосом, очень грустные, держась за руки. Она печалилась при мысли, что его желания не будут исполняться в новой квартире. Он не думал о грядущих неудобствах: что в них? Он мужчина и может переносить их. Непоправима будет утрата ее самой. Она вздохнула: он скоро забудет ее. Он всеми богами клялся в вечной памяти. Когда-нибудь театральная красавица похитит его. Он засмеялся такому абсурду. Джен всегда будет его поверенной, его наперсницей. Хотя они и не будут жить под одной кровлей, но смогут встречаться и проводить вместе долгие и радостные часы. Джен горестно заметила, что только по воскресеньям, так как их рабочие часы не совпадают. «А ведь ты не можешь отдать мне все твои воскресенья в году», прибавила она. Поль уклонился от этой мрачной темы и, чтобы утешить ее, стал горячо говорить о будущем, когда он достигнет величия. Он даст ей прекрасный дом с экипажами и слугами, и ей не придется работать.
— Но если тебя не будет при этом, на что мне все эти прекрасные вещи? — сказала она.
— Я буду навещать тебя, мой дорогой глупыш! — отвечал он.
Когда они расставались на ночь, Джен пылко обвила его шею руками.
— Не забывай меня совсем, Поль, это разобьет мое сердце! У меня нет никого кроме тебя, с тех пор как бедная мама покинула нас.
Поль поцеловал ее и повторил клятвы. Он не клялся, что заменит ей мать, но сердцу девушки показалось, что он обещал ей именно это. Маленькая девочка ждала в его голосе нотки, которая так и не прозвучала…
Девяносто девять из ста юношей, держа в объятиях хорошенькую и милую им девушку, потеряли бы голову (и сердце) и поклялись бы именно так, как того хотелось бы девушке. Но Поль был другим, и Джен, к великому своему огорчению, знала это. Он вовсе не был лишен темперамента. Но он жил, погруженный в свои мечты, и Джен помещалась только на окраине его царства. В сердце его, окутанная в аметистовый туман, сквозь который просвечивали лишь алмазы ее диадемы, жила несравненная принцесса его королевства, у ног которой он стоял на коленях, лобызая кончики ее розовых пальчиков. И как в голову ему никогда не приходило поцеловать кончики пальцев Джен, так никогда не воображал он себя влюбленным в Джен. Поэтому, держа ее в объятиях, он крепко и по-братски сжимал ее, но поцеловал целомудренным поцелуем Адониса. Конечно, он никогда не забудет ее.
Джен легла в постель и выплакала в подушку горе своего сердца. Поль тоже спал очень мало. Распад очага уносил с собой много дорогих и милых сердцу вещей, он знал, что жизнь его станет беднее. И еще раз поклялся самому себе, что никогда не предаст Джен.
Пока Поль был в Лондоне, он старался видеть ее возможно чаще и приносил в жертву этим свиданиям не одну прекрасную экскурсию с товарищами по театру. Джен чувствовала его внимание и была ему благодарна изо всех сил своей девической души. Вступив в мир борьбы за существование, она очень скоро перестала быть ребенком и как женщина упивалась рассказами великолепного юноши о грядущих чудесах. Никогда больше она не бросалась в его объятия, и он никогда больше не называл ее «своей дорогой глупышкой». Джен неясно сознавала перемену, хотя и знала, что в мире для нее не существует другого мужчины, кроме Поля.
А затем Поль уехал.
7
Четыре года Поль был на сцене. Эти годы имели так же мало влияния на его последующую жизнь, как годы, проведенные в Блэдстоне и в мастерских художников. Он был человек, рожденный быть королем. Только достижение королевства имело цену. Промежуточные стадии не шли в счет. Это был период борьбы, лишений и — в отношении самой сцены — разочарований. По истечении первого года богиня Фортуна, еще менее постоянная в царстве театра, чем в иных местах, покинула Поля. Лондон не нуждался в его услугах, в особенности когда он выразил претензию играть роли. Ему даже отказали в привилегии посещения театров и изучении сценического искусства. Он отправился в провинцию, где было больше простора для его вожделений. Часто он оставался без ангажемента и в эти дни досуга проедал свои сбережения. Он познал горечь темных лестниц агентств и мрачных бюро по найму.
Поль смирился с вялыми репетициями, часами ожидания своего маленького выхода и неспособностью придать обыденным словам ту особую интонацию, которую требовал не в меру взыскательный автор. Он освоился с долгими и голодными воскресными поездками по железной дороге, когда все благочестивые рестораны заперты; с гастролями в таких маленьких городишках, как Блэдстон, где он и трое или четверо других актеров труппы делили одну тесную театральную уборную; с грязными театрами, с непрерывными мелкими интригами и ссорами плохо оплачиваемой странствующей труппы. Лишения мало действовали на Поля, он никогда не знал роскоши и то, что выпадало на его долю, было все же благополучием в сравнении с тем, что сталось бы с ним, если бы Барней Биль не похитил его. Он никогда не жаловался на жесткую постель или плохо приготовленную пищу, на переполненные и душные артистические уборные, но ему всегда казалось абсурдом, что так может продолжаться судьба того, кому предопределено величие. Был какой-то перерыв в работе судьбы. И это удивляло его.
Однажды, правда, будучи без работы, не имея ангажемента впереди и ожидая новых репетиций, Поль оказался достаточно богатым, чтобы взять билет третьего Класса до Парижа, где он блестяще провел месяц. Но такое благополучие не повторялось, и ему оставалось только жить воспоминаниями о Париже.
В течение этих лет книги, как всегда, были его радостью и утешением. Он сам выучил французский язык и немного немецкий. Читал труды по истории, философии, научно-популярные работы, интересовался политикой. Конечно, такая аристократическая личность страстно симпатизировала тори[14]. Изредка, но не часто, — ибо театральный мир в основном консервативен — Поль сталкивался с неистовым радикалом и испытывал радость жестоких словопрений. Иногда встречал он молодую женщину на высотах современной культуры и раз или два с трудом избежал опасности сердечного крушения на подобных Сцилле и Харибде скалах ее интеллекта. И только когда он чувствовал, что она теряет голову из-за его романтической внешности, а не из-за его таланта или природного права на власть, Поль начинал сомневаться в ее интеллектуальной искренности.
Сознание, что он многим нравится исключительно своей внешностью, стало у Поля болезненным. Он не мог укрыться от легких острот товарищей насчет его «фатальной красоты». Он боялся этих ужасных фраз, которые вызывают всякого на более или менее оживленную интимность будь то с мужчиной или женщиной. Поль ненавидел их свыше меры благоразумия. Была одна поездка, во время которой он желал оспы или сломанного носа, или паралича лицевых мышц, чтобы никогда больше ни одна женщина не обратила на него внимания и никакой мужчина не оскорбил его вульгарной шуткой.

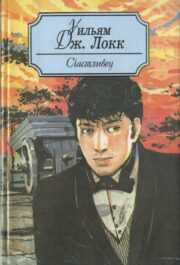
"Счастливец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливец" друзьям в соцсетях.