Парадоксы литератора из Лондона не убеждали Сайфера. Он по-детски верил, что романисты и актеры — существа высшего порядка. Раттендена пленяла эта аркадийская наивность[62], и он охотно проводил время с Сайфером. По воскресеньям после обедни они подолгу гуляли вместе.
— В конце концов, — говорил Раттенден, — я могу без обиняков высказывать свои суждения об этом мире. Я — пария среди своих.
Сайфер осведомился:
— Почему?
— Потому что не играю в гольф. В Лондоне нельзя прослыть настоящим писателем, не играя в гольф.
Сайфер умел слушать. А литератор из Лондона любил поговорить, любил изловить какую-нибудь теорию, подержать ее в руках, как трепетно бьющуюся пойманную птичку, а затем отпустить. Сайфер восхищался гибкостью его ума.
— Вы жонглируете идеями, как акробат шарами.
— Это игра, которой я научился. Очень полезная игра. Она снимает с ваших плеч докучную заботу о том, как добыть хлеба и масла для своей жены и пятерых детей.
— Хотел бы я научиться у вас этой игре. У меня много ясен и детей, у которых не будет хлеба с маслом, если я им не дам.
Чуткий слух Раттендена уловил в его голосе нотку уныния. Он дружески усмехнулся.
— А вы приглядитесь, как это делается. Тоже не мешает. Когда вам станет скучно в Лондоне, загляните ко мне. Мы с женой покажем вам эту игру. Она у меня занятная — не знаю, как бы я выбился в люди без нее. А крем ваш она обожает.
Таким образом они и подружились. Со времени неудачного лечения собственной пятки Клем Сайфер отучился от своей манеры трубить всем и каждому в уши о своем креме. Вечно опасаясь как бы кто-то снова не назвал его детище шарлатанским средством, он присмирел и говорил теперь о путешествиях, людях, вещах — о чем угодно, только не о креме. Сайфер предпочитал слушать, а так как Раттенден предпочитал говорить, им было легко разговаривать. Раттенден забавно рассказывал анекдоты, и у него был огромный запас наблюдений, который он называл «сырым материалом». К коллекционеру, в силу какого-то неведомого закона притяжения, всегда тянутся те предметы, которые он собирает. И всюду, где бы ни появлялся Раттенден, он находил нужное ему, так же как приятель Септимуса — старинную оловянную посуду. Не было разговора поблизости от него, который бы он не поймал на лету. И мало было происшествий в литературном или театральном Лондоне, весть о которых не дошла бы до Раттендена. Он мог бы разрушить немало семейных очагов и подорвать не одну репутацию. Но, как человек воспитанный, он не разглашал того, что знал, и, как истинный артист, рассказывая анекдоты, был весьма разборчив в выборе материала. Очень редко случалось, чтобы он передавал какую-нибудь сплетню ради нее самой; если же он это делал, то умышленно и с определенной целью.
Однажды вечером они обедали вместе в клубе Сайфера — большом, с политическим уклоном клубе, членами которого состояло до тысячи человек. Они уселись за отдельным столиком в углу столовой, украшенной портретами во весь рост важных государственных деятелей. Сайфер с довольным видом развернул свою салфетку.
— Я получил приятное известие. Миссис Миддлмист едет домой. Она уже в пути.
— Вы пользуетесь привилегией быть ее другом, — сказал Раттенден. — Вам можно позавидовать.
В его тоне и манерах еще сохранилось что-то от студенческих традиций. У него были темно-каштановые с проседью волосы, висячие усы и на носу — пенсне на широком черном шнурке. Он был очень близорук, и сквозь толстые стекла очков глаза его казались лишенными всякого выражения.
— Зора — Миддлмист, — заметил он, выжимая лимон на устрицу, — великолепное создание, которым я искренне восхищаюсь. Но так как я никогда не упускаю случая напомнить ей, что она, будучи высокоодаренной натурой, зря тратит свою жизнь, она не жалует меня своими милостями.
— Что же, вы полагаете, ей бы следовало делать со своей жизнью?
— Всегда трудно и щекотливо обсуждать поступки женщины с другим мужчиной, особенно, когда… — Он сделал красноречивый жест. — Но я ведь литератор, написал два-три романа, посвященных анализу женской души, так что могу судить вполне компетентно. Дело в том, что как художник не может правильно нарисовать задрапированную фигуру, если не знает анатомии и ясно не представляет себе скрытое под драпировкой тело, так и романист не в состоянии правдиво и жизненно изобразить женский характер, не учитывая всех скрытых физиологических пружин, управляющих поступками той или иной женщины. Он должен хорошо понимать, насколько в ней сильны инстинкты пола, хотя ему и нет надобности выставлять их напоказ в своем произведении, как не обязательно для художника подчеркивать анатомическое строение тела своей модели. Анализируя же выдуманные женские образы, усваиваешь привычку анализировать и реальных женщин, которыми интересуешься, — вернее, невольно их анализируешь. — Он помолчал. — Я уже говорил вам, что это очень щекотливый вопрос. Вы понимаете, к чему я клоню? Зора Миддлмист скитается по всей земле, как Ио[63], гонимая оводом своего темперамента. Она ищет красоты, полноты, смысла жизни. А в действительности она ищет любви, и только любви.
— Не верю, — сказал Сайфер.
Раттенден пожал плечами.
— И все-таки это правда. Но только Зора ищет большой любви к большому человеку — яркого тропического солнца, под лучами которого вся она расцвела бы пышным цветом. Маленькие люди ее не волнуют. Она притягивает их, они кружатся вокруг нее — такие женщины всех притягивают — но сама она проходит мимо, высоко неся голову, и, как богиня, не замечая их. Она ищет большого человека, достойного ее любви. Забавно и трогательно во всем этом то, что она так же невинна и так же не сознает, чего хочет, как цветок, раскрывающий свой венчик, не сознает, что он раскрывает его для пчелы, которая принесет ему на крыльях частицу оплодотворяющей цветочной пыльцы. Мне, конечно, случалось и ошибаться. Но в данном случае я сужу верно.
Он торопливо принялся за свой суп, который уже успел остыть.
— Вы часто сталкиваетесь с женщинами и изучали их, — заметил Сайфер. — А я — нет. Я был помолвлен с одной девушкой, но пылких чувств не замечалось ни с одной стороны. Она вернула мне кольцо, потому что мне больше нравилось сидеть в своей лаборатории, чем в гостиной ее мамаши, держа руку девушки в своих руках; без сомнения, она была права. Это произошло в самом начале моих опытов с кремом. С тех пор я был поглощен одной идеей, которой отдавал всю свою душу и силы, так что женщинами почти не интересовался. Случалось иной раз, конечно…
— Понимаю. Мимолетные увлечения. На пиру жизни без этого не обойтись: съешь и забудешь.
Сайфер одобрительно кивнул головой: ему нравилось, что литератор из Лондона все умеет облечь в изящную форму. Ничего не ответив, он молча ел рыбу, почти не ощущая ее вкуса; мысли его витали где-то далеко за морем, подле Зоры Миддлмист. В сердце Сайфера поднималась безумная ревность и ненависть к «большому человеку», которого она ищет в чужих странах. Румяное лицо его стало багровым.
— Эта рыба превосходна, — одобрил блюдо Раттенден.
Сайфер вздрогнул, смутился и стал хвалить повара и говорить о кушаньях, но мысли его были с Зорой. Ему вспомнилось признание Септимуса Дикса в Париже. Того также захватило неотразимое притяжение. Септимус любил Зору, но он был маленьким человеком, и она, как сказочная фея, прошла мимо, не заметив его. Гастрономический разговор не клеился. Неожиданно Раттенден сказал:
— Один из самых загадочных женских поступков, над которыми я ломал себе голову в последнее время, — это брак ее сестры с Септимусом Диксом.
Сайфер положил на стол нож и вилку.
— Как странно, что вы заговорили об этом. Я как раз думал о нем.
— А я — о ней. У нее темперамент миссис Миддлмист без ее силы воли — пол без характера. Вчера я слышал о ней одну вещь, весьма любопытную.
— А именно?
— Одна из тех вещей, которые нельзя передавать.
— Скажите мне. У меня есть основания просить вас об этом. Я убежден, что тут есть обстоятельства, о которых ни мать миссис Дикс, ни ее старшая сестра ничего не знают. Я честный человек, и вы можете мне доверять.
— Ладно, — сказал Раттенден. — Слышали вы когда-нибудь о некоем Мордаунте Принсе? Да, актер, — и очень популярный, но страшный негодяй — позор для сцены. Он играл первые роли в том театре, где последнее время работала мисс Олдрив. Их чуть ли не каждый день видели вместе. Об этом много сплетничали.
— Злые языки немилосердны.
— Если милосердие, как гласит пословица, покрывает множество грехов, то немилосердие имеет то преимущество, что открывает скрытые грехи, — в том числе и тот, о котором я вам сейчас поведаю. За два-три месяца до свадьбы Эмми она и Мордаунт Принс провели вместе около недели в одном отеле в Тенбридж-Белс. Это абсолютно достоверно. Они приехали и уехали на автомобиле. А за неделю до того, как Дикс увез мисс Эмми, газеты сообщили, что Мордаунт Принс обвенчался с миссис Моррис — старухой Сол Морис, вдовой ростовщика.
Сайфер смотрел на своего собеседника во все глаза.
— Что ж, дело самое обычное, — цинично усмехнулся Раттенден. — Я только удивляюсь тому, что Калипсо столь быстро утешилась после отъезда Улисса[64] и при этом избрала утешителем такого мечтателя и человека не от мира сего, как наш приятель Дикс. А конец истории Мордаунта Принса следующий: вдове он скоро надоел, и она сплавила его, положив ему небольшую пенсию. Теперь он пьет горькую где-то в Неаполе.
— Эмми Олдрив? Боже мой! Возможно ли? — воскликнул Сайфер, рассеянно отодвигая блюдо, которое ему подавал лакей.
Раттенден, тщательно выбрав кусок, положил себе на тарелку куропатку и салат из апельсинов.
— Не только возможно, но несомненный факт. Видите ли, — снисходительно пояснил он, — так или иначе, но все, что случается с лондонцами, рано или поздно доходит до меня. Дама, которая сообщила мне это, жила в том отеле. И я абсолютно ручаюсь за ее правдивость.

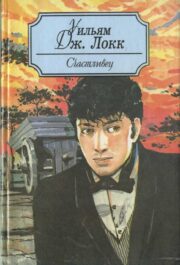
"Счастливец. Друг человечества" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливец. Друг человечества". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливец. Друг человечества" друзьям в соцсетях.