Теперь турне кончилось. В предположении, что Джен, не имея от него известий, пошлет письмо в последний из указанных в маршруте театров, Поль списался с местной дирекцией. Но поскольку местные дирекции провинциальных театров стремятся устраивать свои дела так, чтобы избежать всякой лишней ответственности, было трудно надеяться заинтересовать их корреспонденцией безвестного члена третьестепенной труппы, игравшей с весьма ничтожным успехом в дощатых стенах театра. Будучи молодым и доверчивым, Поль написал также человеческому существу, заключающему в себе пиво, табак и сонливость, которое именовалось театральным сторожем. Но он с таким же успехом мог писать начальнику станции или на городской газовый завод. Словом, они с Джен так же надежно потеряли друг друга, как если бы Англия представляла собой первобытный лес.
Это была беда, которая очень огорчила Поля. У него было много друзей легкомысленной театральной породы, которые знали его как Поля Савелли, романтически красивого, великодушного, очаровательного, образованного молодого человека и до отвращения плохого актера. Но только Джен знала его как маленького Поля Кегуорти. Ни одна из встреченных женщин не могла дать ему такой тесной, интимной и утешительной дружбы. От Джен он не скрывал ничего, перед всеми другими он позировал. Джен с ее здравым смыслом, сметливостью, с ее ясно выраженным критическим отношением при неизменной симпатии, была спаяна с самой сущностью его жизни.
Среди искусственности, претензий и ложной чувствительности актерской жизни Поля Джен была единственной реальностью. Она одна знала про Блэдстон, про Барнея Биля, про его роль натурщика, воспоминание о которой заставляло его содрогаться. Она одна (кроме Барнея Биля) знала о его высоком предназначении, ибо Поль, знакомый с циничным скептицизмом безучастной толпы, никому из своих товарищей не открыл тайны Сверкающего Видения. Ей он мог писать, с ней мог разговаривать, когда бывал в Лондоне, перед ней мог выкладывать всю эту смесь веры, тщеславия, романизма, эгоизма и поэзии, которая составляла его «я», не боясь быть непонятым. В последний раз, когда он видел Джен, он отметил, что из девочки она превратилась в женщину, крупную, полногрудую, с ясно глядящими из-под густых бровей глазами. Джен не ссорилась с ним из-за других девушек. Она упрекала его за безумства, в которых он сознавался ей, как раз в той форме, в какой мужчины любят упреки. Она витала с ним в эмпиреях его мечты и от всей души наслаждалась представлением, на которое он взял ее с собой. На империале крикльвудского омнибуса она ела, с веселостью и аппетитом своих двадцати лет, экзотические сандвичи, которые он купил для нее в гастрономической лавке на Лейстер-сквер. Словом, Джен была идеальной сестрой.
А теперь она исчезла, как снежинка в реке. Долгое время это казалось Полю невероятным абсурдом. Он предпринимал всевозможные шаги, чтобы отыскать ее. День за днем проходил по Сити в часы, когда девушки и мужчины высыпают на улицу из своих рабочих ульев. Джен никогда не говорила ему, где служит, не считая это интересным для него, а он по своей обычной беспечности не спрашивал ее об этом. Однажды он предложил зайти за ней в контору, но она решительно отклонила это предложение. Поль был слишком заметным молодым человеком, чтобы не обратить на себя внимание сослуживцев, а чувство ее к нему было слишком деликатно, чтобы допустить грубое прикосновение их толков.
После целого ряда попыток, не встретив Джен в человеческих потоках Чипсайда и Кенон-стрит, Поль прекратил розыски. Джен была потеряна, абсолютно потеряна, а с нею вместе — Барней Биль. С тяжелым сердцем он опять отправился в турне, чувствуя, что, потеряв этих двух, совершил акт низкой неблагодарности.
Четыре года пробыл Поль на сцене, из отрока стал мужчиной. И в один прекрасный день, двадцати трех лет от роду, он оказался столь же бедным пенсами и столь же богатыми мечтами, как в тринадцать лет.
Нужда заставила его принять, что попалось. Он играл первую роль, но в дикой мелодраме, с которой ездила по провинции жалкая третьестепенная труппа. Они играли в клубных залах и концертных помещениях, на открытых сценах в бедных маленьких городишках. Была прекрасная июльская погода, а дела шли плохо. Так плохо, что антрепренер внезапно запер кассу и исчез, бросив труппу в полутораста милях от Лондона, да еще не заплатив за пару недель.
Поль упаковывал свои вещи в чемодан, лежавший на узкой постели в его маленькой комнатке. Бледный худой человек со шляпой на затылке, с окурком в губах, сидя верхом на плетеном стуле, смотрел на него с упорством отчаяния.
— Вам хорошо принимать все это весело, — говорил он. — Вы молоды, сильны, богаты. Вы одиноки, у вас нет жены и детей, зависящих от вас.
— Да, я знаю, это дьявольская разница, — отвечал Поль, оставляя без внимания намек на его богатство. Как премьер, он получал самый большой оклад в злополучной труппе, и приобрел уже достаточную житейскую мудрость, чтобы знать, что тому, у кого нет ни гроша, обладатель шиллинга представляется невероятным богачом. — Но что еще остается делать? — прибавил он. — Мы должны возвращаться в Лондон и снова приняться за поиски.
— Если бы в этой стране существовало правосудие, этого жулика закатали бы на пятнадцать лет. Я никогда не доверял ему. Двухнедельное жалованье не уплачено, и нет денег на проезд в Лондон. Не следовало мне связываться с ним. Я мог бы поехать с Гарботом играть в «Белой женщине», он честный человек. Но тут уже был подписан контракт. О, свинья!
Актер встал, бросил окурок на пол и в бешенстве растоптал его.
— Да, он порядочный прохвост, — сказал Поль. — Не прошло и двух недель, как он упросил меня согласиться на половинное жалованье, клянясь, что доплатит остальное, лишь только дела пойдут лучше. Как идиот, я согласился.
Его товарищ опять сел с безнадежным видом.
— Я не знаю, что будет с нами. Жена заложила все, что могла, бедняжка! Чертовски тяжело. Мы шесть месяцев сидели без ангажемента.
— Бедный старина! — Поль сел на постель рядом со своим чемоданом. — Как мистрисс Уильмер отнеслась ко всему этому?
— Она окончательно сломлена. Видите ли, нам приходилось отсылать домой все, что мы могли наскрести, на содержание детей, а их пятеро. И теперь ничего не осталось. Впрочем, нет. Осталось вот это! — он выудил из жилетного кармана несколько медяков и высыпал их на ладонь с горьким смехом. — Видите — все, что осталось от двадцати лет работы в этой проклятой профессии!
— Бедный старина! — повторил Поль. Он любил этого трезвого, серьезного, искреннего человека и его жену, некрасивую добрую женщину. В течение всей поездки они держались бодро, не проявляя того, что мучило их, и оказывая ему и другим членам труппы немало любезностей и услуг. В низах театральной профессии, к которым принадлежал Поль, он неоднократно встречался с такой гордой нищетой. Он сам слишком близко познакомился с нуждой. В то утро он дал из своих скудных средств денег на проезд по железной дороге заплаканной и расстроенной девушке, игравшей маленькие комические роли. Но такое невыносимое положение, как положение Уильмера, ему еще не встречалось. Сорок с лишком лет за плечами, жена, пятеро детей, вся жизнь, честно отданная призванию, и три с половиной пенса — все состояние.
— Но что же будет с вашими детьми? — спросил Поль после некоторого молчания. — Если у вас ничего нет, что же станет с ними?
— Дьяволу одному известно, — простонал Уильмер, положив локти на спинку стула, зажав голову в ладонях и глядя прямо перед собой.
— А достали ли вы с женой денег на возвращение в Лондон?
— У меня осталась еще фрачная пара, которую я надеваю в последнем акте. Она почти новая. Я могу получить за нее достаточно для проезда.
— Но ведь это необходимая часть вашего гардероба, ведь фрак опять понадобится вам для дела!
Уильмер в течение долгих лет играл лакеев. Иногда, когда роль не требовала особой характеристики, он получал ангажемент и в Лондоне. Он был одним из известных актеров на роли лакеев.
— Я смогу взять напрокат, если будет необходимо, — сказал он. — Ну не ад ли это? Что-то говорило мне не брать с собой гардероба. Теперь уж никогда не заведешь. И ведь не доверял же я Ларкинсу, но шесть месяцев мы сидели без ангажемента… Поль, мой мальчик, вы молоды, вы сильны, вы получили прекрасное образование, вы благородного происхождения (мой отец держал маленькую скобяную лавчонку в Лейстере), вы, — он смущено искал слов, — вы обладаете необыкновенной красотой; у вас есть очарование и вы можете делать что угодно, только не играть на сцене, игра ваша ни к черту не годится! Какого же дьявола вы торчите тут?
— Я пытался заработать себе на пропитание, так же, как и вы, — ответил Поль, польщенный нелицемерным признанием его аристократизма и нисколько не обиженный профессиональным суждением, справедливость которого уже признавал. — Я пробовал всякие другие дела — музыку, живопись, поэзию, беллетристику, но ничего из этого не вышло.
— Ваши родные не оказывают вам поддержки?
— У меня нет родных, — сказал Поль улыбаясь. А когда Поль улыбался, казалось, что крыло Эрота скользнуло по щекам праксителева Гермеса. — С тринадцати лет я самостоятелен, — прибавил не то искренне, не то хвастливо.
Уильмер посмотрел на него с удивлением.
— Жена и я всегда думали, что вы родились с серебряной ложкой во рту.
— Так и было, — ответил Поль с глубочайшей убежденностью. — Но, — рассмеялся он, — я потерял ложку раньше, чем выросли зубы!
— Вы хотите сказать, что занимаетесь этим не ради забавы? — воскликнул Уильмер.
— Забава? — в свою очередь вскричал Поль. — Неужто вы находите это забавным? — Он выразительным жестом указал на ободранные красные обои, на рваную клеенку на полу, на хромой умывальник с облезлой краской и остатки скудной трапезы на не покрытом скатертью столе. — Не думаете ли вы, что я проделывал бы все это, если бы мог быть праздным?

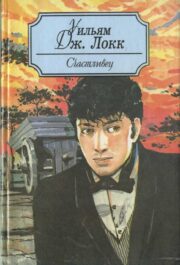
"Счастливец. Друг человечества" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливец. Друг человечества". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливец. Друг человечества" друзьям в соцсетях.