— Разве того, что я здесь, недостаточно чтобы показать вам, какого я о вас мнения?
— Простите меня. Нехорошо с моей сторон предлагать вам такие вопросы.
— Больше, чем нехорошо — не нужно.
Сайфер провел рукой по глазам и сел.
— Мне много пришлось сегодня пережить. Я, что называется, не в себе, так что вы должны простить, если я говорю то, что не нужно. Сама Фортуна послала вас ко мне в это утро, а Септимус был ее послом. Если бы не вы, я бы, наверное, в самом деле сошел с ума.
— Расскажите мне все, — ласково попросила она, — все, что захочется. Ведь, если не ошибаюсь, я ваш самый близкий друг.
— И самый дорогой.
— И вы мне дороги оба — вы и Септимус. Я перевидала сотни людей за время своей поездки, и некоторые из них как будто любили меня, но ни один не играл никакой роли в моей жизни, кроме вас двоих.
Сайфер думал: «Мы оба тоже любим тебя всей душой, а ты даже не знаешь этого». И ревниво спрашивал себя: «Кто эти люди, которые ее любили?», но вслух повторил только:
— Ни один?
С улыбкой глядя ему прямо в глаза, Зора повторила: «Ни один». Он вздохнул с облегчением. Значит, она не нашла того большого человека, о котором Раттенден говорил, что она ищет его, чтобы под жгучим солнцем его страсти распуститься пышным цветом. И в тайниках своего мужского эгоистичного сердца возблагодарил судьбу за то, что не нашла.
— Рассказывайте же, — попросила Зора.
Сайфер рассказал ей всю трагикомическую историю своих неудач — от эпизода с натертой пяткой. Поведал и то, что даже себе не говорил, — мысли и чувства, которые теперь, когда он их выразил словами, удивили его самого.
— В Галиции, — говорил он, — в каждом доме, даже в самой бедной крестьянской хате, есть священные изображения. Там их называют иконами. Вот это все, — он указал на стены, — были мои иконы. Как вы их находите?
Впервые Зора обратила внимание на обстановку комнаты, где они находились. Плакаты, рекламные листки, модель Эдинбургского дворца из красных коробочек произвели на нее то же впечатление, что и знаменитая доска в саду дома Сайфера в Нунсмере. Но тогда они могли спорить о том, насколько безвкусна такая реклама, и она считала себя вправе предписывать ему законы поведения, в качестве arbiter elegantiarum[70].
Теперь он видел все эти убогие «иконы» ее глазами и прошел через все муки ада, прежде чем достиг такой ясности зрения.
Что же могла она сказать? Зора, великолепная и самоуверенная Зора, не находила слов, хотя сердце ее разрывалось от жалости. Она вплотную приблизилась к смешной, на чужой взгляд, трагедии человеческой души, и ее скромный жизненный опыт, не мог подсказать ей, как следует себя вести. Здесь не место было разыгрывать благодетельную богиню. Зора молчала, боясь вымолвить слово, чтобы ее участие не показалось Сайферу неискренним. Она хотела ему дать так много, а могла так мало…
— Я жизни не пожалею, чтобы вам помочь, — почти жалобно проговорила она. — Но что же я могу для вас сделать?
— Зора! — хриплым голосом воскликнул он.
Она подняла на него глаза, и встретившись с его взглядом, поняла, что в ее власти ему помочь.
— Нет, не смотрите так — не надо! Я не могу этого вынести.
Она отвела от него глаза и встала.
— Не будем ничего менять. Все было так хорошо и странно: вы хотели сделать из меня какую-то жрицу своего божества. Я смеялась, но мне это нравилось.
— Потому я и говорю, что был глупцом, Зора.
Неожиданно и резко зазвонил телефон. Сайфер сердито схватил трубку.
— Как вы смеете звонить, когда я сказал, чтобы меня не беспокоили? Мне все равно, кто меня спрашивает. Я никого не желаю видеть!
Он повесил трубку. Начал было: «Я извиняюсь» — и остановился. Грубое вторжение внешнего мира напомнило ему о практической стороне жизни. Он был разорен. Мог ли он сказать Зоре Миддлмист: «Я нищий. Выходите за меня замуж»?
Она подошла к нему, протягивая обе руки, — обычный для нее инстинктивный жест в тех случаях, когда сердце ее было переполнено, — и впервые назвала его по имени:
— Клем, будем друзьями — настоящими добрыми, хорошими друзьями, но не надо портить мне радость этой дружбы.
Когда женщина, бесконечно желанная, просит о дружбе, а глаза ее сияют таким дивным светом, и сама она, милая, очаровательная, совсем близко, — мужчине остается только привлечь ее к себе и, бесчисленными поцелуями заглушив ее мольбы, с торжеством увлечь свою добычу. С тех пор как стоит мир, мужчины всегда так поступали, и Сайфер, как истый мужчина, это знал. Она подвергла его искушению, какое ему и во сне не снилось, — муке, пострашнее пещи огненной.
— Забудьте, что я вам сказал, Зора, будем друзьями, если — если вы так хотите.
Он сжал ее руку и отвернулся. Зора почувствовала, что ее победа немногого стоит.
— Мне пора… — сказала она.
— Нет. Посидите еще, побеседуем, как друзья. Я столько месяцев вас не видел и так соскучился!
Она посидела еще, и они мирно беседовали о многом. Прощаясь с ней, он сказал, полушутя — полусерьезно:
— Я часто спрашивал себя, что вас могло привлечь в таком человеке, как я.
— По всей вероятности, то, что вы большой человек, — ответила Зора.
20
После обеда с Зорой Септимус пошел опять в свой клуб, вдвойне благословляя судьбу: во-первых, Фортуна, в неизреченной своей милости, вернула ему благоволение его богини; во-вторых, ему удалось в разговоре с Зорой обойти вопрос о том, что они живут врозь с Эмми. В течение нескольких часов он размышлял о сложных отношениях между Зорой, Сайфером, Эмми, им самим и в конце концов совершенно запутался. Он жаждал греться в лучах своего божества, но для женатого, хотя бы формально, человека это казалось ему не слишком удобным. Его стараниями Клем Сайфер теперь тоже мог греться на том же солнышке, и Септимуса смущала мысль, что они оба будут наслаждаться таким счастьем одновременно. К тому же он опасался, что Зора не очень-то поверит в его несносный характер и придирчивость в качестве уважительных причин для того, чтобы не жить вместе со своей женой. В результате бедняга не сомкнул ночью глаз, а утром, словно кролик, забрался в свою норку в Нунсмере. Как бы то ни было, собачий хвостик сделал свое дело.
Это было в пятницу. А в субботу утром его разбудил Вигглсвик. Костюм последнего не являл собою образец костюма примерного слуги. На нем была распахнутая на груди старая цветная рубашка, панталоны, подтянутые красными подтяжками к самым плечам, и стоптанные ковровые туфли.
— Тут письмо.
— Так опустите его в ящик, — сонным голосом ответил Септимус.
— Зачем же опускать? Это не вы писали, а миссис. Марка французская, а штемпель парижский. Вы бы лучше прочли.
Он положил письмо на подушку и отошел к окну полюбоваться видом окрестностей. Септимус, окончательно проснувшись, прочитал письмо. Эмми писала:
Милый, дорогой Септимус!
Я не могу дольше выносить это одиночество в Париже. Не могу и не могу! Если бы вы были здесь и я могла вас видеть хоть раз в неделю, это бы еще ничего; но жить здесь день за днем совсем одной, не слыша от вас ни одного утешительного слова, — этого я не в силах вынести. Вы пишете, что моя квартира готова. Я сейчас же выезжаю с беби и мадам Боливар, которая клянется, что никогда меня не покинет. Как она будет жить в Кондоне, не зная ни слова по-английски, не могу себе представить. Если и Зора там, мне все равно. Теперь я не боюсь. Может быть, мне даже лучше повидаться с Зорой — лучше для вас. А для меня, как мне кажется, это теперь совершенно безопасно. Вы не возненавидите меня, милый мой Септимус, не сочтете страшной эгоисткой за то, что я вас не послушалась? Но поймите же, вы мне нужны. Так нужны, так нужны! Спасибо за игрушечную железную дорогу. Беби с наслаждением слизывает язычком краску с вагонов, но мадам Боливар говорит, что это для него вредно. Милый, если бы я не думала, что вы простите меня за то, что я вам докучаю, я бы не стала докучать.
Ваша всегда признательная Эмми
Септимус раскурил недокуренную трубку, уже третий день лежащую поверх одеяла и, заметив, что Вигглсвик все еще здесь, нарушил его созерцание природы вопросом, был ли тот женат.
— И даже очень. Сколько раз!
— Боже мой! Как это так?! Вы, значит, были двоеженцем?
— Зачем? Я сперва хоронил одну — честь честью, а потом уже женился на другой.
— Это было очень мило с вашей стороны.
— Я так поступал из благодарности.
— За их доброту?
— Нет, за то, что избавлялся от них. О, я немало набрался опыта, прежде чем постиг блаженство одинокой жизни.
Септимус вздохнул.
— А ведь это, должно быть, очень приятно, Вигглсвик, иметь жену?
— Да ведь у вас же есть.
— Да, да, конечно. Я думал о тех, у кого нет.
Вигглсвик с таинственным и конфиденциальным видом приблизился к постели своего хозяина.
— Вы не находите, сэр, что нам здесь живется очень уютно и удобно?
— Д-да, — нерешительно проговорил Септимус.
— Мне, по крайней мере, не на что жаловаться. Провизия свежая, спать тепло, пиво вкусное, опять же всякие ягоды… Чего еще нужно человеку? Не бабу же. Баба — всегда помеха.
— Вам не холодно, Вигглсвик, вот так, в одной рубашке? — нерешительно осведомился Септимус.
Вигглсвик не счел нужным понять деликатный намек.
— Холодно? Нет. Если бы мне было холодно, я бы живо согрелся. Я только хотел сказать вам, мистер Дикс, что теперь, когда вы с миссис на время расстались, — вы не находите, что так и удобнее, и уютнее? Я, конечно, ничего не говорю. Если она сюда приедет, я буду все делать исправно. Я свое дело знаю. Но знаете, сэр, женщина, — как пойдет она наводить всюду чистоту, да пыль сметать, да мыться горячей водой, да цветы расставлять по вазам, — ужасно много от нее суеты. Я не раз был женат, так знаю. Вы не думаете, сэр, что нам с вами было бы лучше вдвоем, как сейчас?

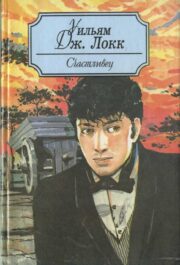
"Счастливец. Друг человечества" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливец. Друг человечества". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливец. Друг человечества" друзьям в соцсетях.