Эта слабость была его единственным пороком; посмотрим, как умели им воспользоваться, чтоб чрез него действовать на две участи, на два сердца!.. Марине доложили, что карета подана, она отправила Бориса, чтоб сбираться к церемонно-семейному обеду у отца, и они расстались оба грустные, оба печальные, сожалея о двух прекрасных днях, безжалостно украденных у счастья, и не зная, когда удастся им наверстать так глупо утраченное время.
Через несколько дней Борис приехал сказать Марине, что на французском театре дают скоро бенефис, замечательный по выбору новой и очень трогательной пьесы, наделавшей много шума в Париже и появляющейся в Петербурге с громкою молвою о ее успехах и несчетных слезах, вызванных ею вместе с лаврами. Борис просил Марину взять ложу для этого представления. Оба редко показывались в этой миленькой, но предательской зале Михайловского театра, где все лица так знакомы друг другу, все места так на виду и наперечет, что нельзя в ней скрыть от общего неумолимого внимания ни взора, ни улыбки, ни поклона, еще менее разговора или встречи слишком занимательной. Марина боялась выставлять на показ волнение, которого она не умела превозмочь в присутствии Бориса, а ездить куда-либо без него, жертвовать несколькими часами, которые она могла провести с ним, казалось ей верхом безумия и не нужного самопожертвования. Но только что она услышала о желании Бориса, она послала за ложею и с ребяческим удовольствием выжидала случая разделить с ним даже театральное впечатление. Он должен был ехать с нею, или, по крайней мере, находиться в ее ложе, а чтоб придать более незначительности его присутствию, она намеревалась пригласить одну из теток своих и двух других кавалеров. Под таким прикрытием, она не опасалась злобных замечаний. Ложи не достали, все были разобраны. Марина предлагала двойную, тройную цену, рассылала по городу десятки записок, употребляла во зло своих друзей, хлопотала, как будто бы дело шло о каком-нибудь важном случае или зрелище, не долженствовавшем более повторяться. Два дня продолжались ее старания, на третий достали ложу, уступленную каким-то спекулянтом за безумные деньги. Марина прыгала от радости, разослала свои приглашения, поехала к Андриё выбирать новую наколку для головы. Наконец, настал желанный день бенефиса. Она не обедала от нетерпения и провела более часа за туалетом, тогда как обыкновенно ей нужно было гораздо менее времени, даже для приготовления к балу. Но зато этот туалет был обдуман и придуман с удивительным искусством, чтоб поразить Бориса при первом взгляде. Иная поэма стоит менее соображений и вдохновений удачно наметанному стихотворцу, чем стоила женщине эта гениальная обстановка ее красоты. Высокий и стройный стан ее терялся в легких и прозрачных сборках белого тарлатана; кружевные волны огибали ее плечи и руки; газ обвивал ее тонкую и немного длинную шею; каскады черных шелковистых длинных буклей падали ей до плеч, а маковка крошечной ее головки была чуть-чуть прикрыта наколкою из сребристой дымки, к боку которой прикалывалась белая лилия, окруженная длинными, изумрудно блестящими листьями: эти цветы, вместе с серебряною бахромою дивной наколки, мастерского каприза Андриё, следовали за изгибами длинных буклей и с ними сбегали живописно вдоль шеи Марины, вплетаясь и впутываясь в кольца волос при малейшем ее движении. Белая атласная мантилья набрасывалась сверх ее наряда, а бирюзовые браслеты окаймляли конец ее перчаток и оттеняли нежную белоснежность ее рук. В общем виде вся эта смесь газа, дымки, серебра, атласа, тарлатана окружала Марину такими неуловимыми отливами разнообразной белизны, что она казалась то воздушной сильфидой, одетой в облако, то ундиной, появляющейся сквозь струи и брызги недосягаемого водопада. Довольная собой и заранее наслаждаясь впечатлением, которое она должна была произвести на него, она спорхнула с лестницы, села в карету и приказала ехать скорее, так сильно горело в ней одно из сладчайших нетерпений жизни, нетерпение женщины, ожидающей страстный взор любимого человека!.. Театр был почти полон, когда она вошла в свою ложу и встретила выразительно восторженные взгляды и немые, но лестные приветы изумления и любопытства сотни глаз, обращенных к ней и рассматривающих ее с видимым наслаждением. Как ни привыкла женщина к подобным торжествам, но все-таки они приносят ей невыразимое, но понятное упоение. И как весело быть предметом всеобщего удивления, когда близок тот, кому жертвуется в приношение весь этот фимиам!..
В ложе уже красовалась Горская, в греческой феске над фальшивыми косами, и за нею, над цитаделью накрахмаленных концов воротничка, высовывалась светло-русая, завитая, бакенбардами окаймленная, но увы, незначительная голова одного из непобедимых львов, разделяющих меж собою первенство моды в гостиных высшего круга. В другом углу ложи находился кавалергард, родственник Марины, но Бориса тут не было. «Он сейчас будет!» — подумала она и уселась прямо лицом к партеру, предоставя старшей в роде и по годам пользоваться лучшим креслом ложи и привилегией облокачиваться на бархатный край ее. Спектакль начинался знаменитою драмою, которую уже играли. Поэтому не было много разговоров меж Мариною и ее приглашенными: все слушали, то есть все, кроме ее! Она притворялась следящей за ходом пьесы, но была занята только своим тайным ожиданием. И вот она считает секунду за секундою, минуту за минутою… вот она поглядывает беспрестанно, но все украдкою, то на стенные часы над аркою, венчающей занавес театра, то на едва зримые часы в готическом кольце на своей руке. Вот она ждет, недоумевает и волнуется разными мучительными догадками и опасениями… А его все нет!., а надо скрывать свое беспокойство, свою тоску, эту безумно-томительную тоску первой любви при ее первых испытаниях!.. надо оставаться спокойной, даже веселой, разговаривать, отвечать на вопросы, которых лихорадка души не дает ни расслышать, ни понять; надо обмениваться пустыми приветами, или замечаниями о пьесе, которой ни единого слова отсутствующая мысль не схватила.
Первое действие драмы кончилось — Борис не являлся!.. Началось второе, тоже кончилось — его все не было!.. Настало третье действие и десятый час, у Марины затемнело в глазах, она перестала дышать и готова была упасть в обморок от грозы, в сердце и груди ее свирепствовавшей незаметно для ее спутников, как вдруг один из них, взглянув на литерную ложу против них, узнал там все семейство Ухманских и Бориса между ними, держащего в руке огромную зрительную трубку своей матери… Марина вздрогнула при этом имени и известии, как будто молния упала и разразилась у ног ее. Да, это точно был он, Борис… которого она так ожидала, которому так радовалась, для которого собственно поехала, для которого наряжалась и была прелестна!.. Он ее обманул!.. О! нет, нет!.. Верно, он не виноват, верно, он не добровольно пожертвовал этим свиданием, ею, их взаимною радостью… Но разве он не мог, не должен был устоять против всех стараний удалить его от нее?.. Разве она сама согласилась бы для кого или чего-нибудь в мире изменить их распоряжения, не сдержать данного ему слова?.. Разве вся сила, вся воля, вся энергия и страстность любви должны быть уделом одной женщины?.. Разве он затем ее полюбил, чтобы всегда и везде жертвовать ею прочим привязанностям своего сердца?.. Ад кипел в душе бедной женщины: она играла веером и продолжала беседовать с своими кавалерами…
Борис издали глядел на нее так грустно… так нежно!.. Дома она нашла записку, в которой он умолял ее простить его. Мать нечаянно объявила после обеда, что у нее есть ложа, но нет кавалера и Борис должен был ее сопровождать!
VII. Cosi fan tutti
Так всегда случалось!.. Когда между Борисом и Мариною было условлено свидание, когда она ждала его дома, когда должна была найти в театре или встретить на бале, всегда какое-нибудь непредвиденное, но его семьею устроенное, обстоятельство разрушало все соображения и приготовления двух любящихся. Борис, желая только уберечь безопасность своей любви, не подвергая ее слишком решительным нападениям родителей, Борис страдал от таких помешательств, но переносил их и жертвовал часами и днями, чтоб отстоять безопасность нескольких лет, как он полагал. Он не рассуждал о том, что часы и дни составляют настоящее и что это настоящее и есть жизнь, тогда как будущее, неверное, неведомое будущее никому не принадлежит и никем не может быть упрочено, а потому и не стоит таких жертв. Он не рассуждал, что жизнь и молодость бегут от нас… что счастье крылато, как сама любовь, а потому надо держать их крепко, когда они у нас в руках, и дорожить каждой минутой, ими дарованной. Он хотел помирить любовь с уставом светской мудрости, заставить их ужиться ладно и согласно, продолжать в одно время и прекрасный роман своего сердца и вседневно положительную жизнь семьянина… Но понимал он, что эти две противоположности несовместимы и что, рано или поздно, одна из двух побеждает и вытесняет другую?.. Марина, решительнее его и самостоятельнее, была крепка и тверда теперь в своей любви, как прежде в своем сопротивлении. Жизнь ее сосредоточилась в этой страсти, в этом чувстве: она ими дышала, и ими только могла и страдать и блаженствовать. Но пылкость и искренность ее тем более были уязвлены этими мелкими, но ежедневно повторяемыми булавочными ранами, которыми осыпали ее со всех сторон. Раздражительность возрастала в ней вместе с тайным, но непримиримым и горьким негодованием, которое возбуждали в ней происки и проделки Ухманских. Мало-помалу она узнала, сколько они ей вредили в общем мнении. Приятельские языки довели до слуха ее все толки, все клеветы, против нее распространяемые. Она пожимала плечами и презрительно улыбалась, когда узнавала новые нелепости, распускаемые и другом и недругом про нее и Бориса, про чистую их любовь, про счастье, таимое так тщательно и строго ее пугливою скромностью. Но потом, когда восстание против нее завербовало не только праздную болтливость незнакомых ей людей, но даже тех, на которых она полагалась, как на защитников своих, когда те, которые назывались ее друзьями, стали тоже пересказывать напраслины на ее счет и перетолковывать каждое ее слово, каждый шаг ее, чтоб находить новые поводы к ее обвинению, она рассердилась на свет, для нее столь враждебный, и начала понемногу от него удаляться. Это была большая с ее стороны ошибка. Отступите перед недоброжелательством и злобою света, обнаружьте только слабость и несмелость, и вся стая завистников и клеветников бросится на вас и будет рвать вас на клочки! Марине следовало открыть свой дом, назначить три-четыре праздника на зиму, пококетничать с двумя-тремя посланниками и секретарями разных миссий, и в неделю все общество было бы снова у ног ее и прославляло бы снова свою богиню красоты и ума. Но она слишком углубилась в жизнь сердца, чтоб предаваться расчетам необходимого в свете макиавеллизма, и потому она потеряла позицию, которую не хотела защищать. Разрыв меж ею и обществом становился ежедневно непримиримее и громче. Она почти перестала выезжать к своим знакомым и принимать их к себе. Про нее уже не злословили, а кричали, на нее не клеветали, а вопияли!.. Она была обречена светскому осуждению, как будто совершила какое-нибудь ужасное преступление. Но тем сильнее, тем более привязывалась она к Борису и к своей любви; в них видела она вознаграждение за все и за всех!..

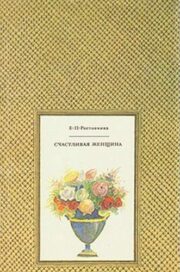
"Счастливая женщина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливая женщина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливая женщина" друзьям в соцсетях.