Марина обновила изящный и нарядный n?glig? который был придуман как нельзя лучше, чтоб возвысить восточный и вместе южный тип ее красоты, и пошла с радостным сердцем и легкой поступью ожидать приезда Бориса.
В первой части ее ожидания она сидела у камина, то играя потухающим пламенем сожженного угля, то подбавляя топлива, потому что он любил, приезжая с мороза, находить у нее яркий огонь и отрадно живительную теплоту. Беспрестанно раздававшийся звонок в сенях и шаги, поднимавшиеся по мраморной лестнице, заставляли ее вздрагивать и вставать с места; она подбегала к дверям, думая встретить его, но узнавала походку слуги и не хотя, чтоб кто-нибудь видел ее нетерпение, поспешно возвращалась к своему месту, чтоб получить каждый раз визитные карточки и доклад о приезжавших и неприятных поздравителях. На следующий час Марина не утерпела, оставила камин и села к окну, чтоб видеть издали на улице знакомые сани. Но время шло, улица все более оживлялась — он все не ехал!.. Сердце ожидающей женщины билось уж не одним радостным, нетерпеливым волнением: беспокойство и болезненное чувство, похожее на сожаление, начинали примешиваться к ее светлым надеждам. Праздник и веселое влияние прекрасной погоды, несмотря на легкий мороз, вызывали на улицу многочисленную толпу всех сословий и состояний, и довольные лица беспрестанно мелькали мимо безмолвных окон и блуждающих взоров одинокой затворницы. Кареты неслись стремглав, наполненные нарядными шляпами, с виду новыми и только что с иголочки, и под этими шляпками улыбались беззаботно щеголихи, перебирая крошечные записные книжечки, полные визитных билетов. Сани скользили, мча военных в полной парадной форме, с блестящими киверами и развевающимися султанами. Но если издали слышалея по отвердевшему снегу мерный топот гордого рысака и показывалась высокая круглая шляпа над темно-синим плащем с меховым воротником, Марина приподымалась и вглядывалась, будто стараясь поскорее уловить ожидаемое сходство, желанные черты… Но мимо, мимо пролетали сани, и это опять был не он… а его все не было и не бывало!.. Тут стали ее тревожить и мучить разные догадки, довольно правдоподобные чтоб взволновать душу и не столь готовую для таких впечатлений: что если случилось с Борисом какое-нибудь несчастье, слишком обыкновешнное в такие дни, когда все улицы кипят народом и экипажами, и легко зацепить, задеть, сломать, повалить легкие сани вместе с ездоком?.. Лошадь его горяча и молода: что, если она понесла, сломала сани, опрокинула Бориса?.. Он, может быть, ушиблен… убит… Ведь всякое несчастья возможно, особенно когда его не ожидают… Ведь так часто случается слышать о подобных приключениях!.. И замирая боязнию, она вскакивала, чтоб позвать, спросить, послать к нему, но рассуждение ее удерживало и она останавливалась перед опасением возбудить неуместные шутки и догадки своей прислуги… Между тем испытание продолжалось, и каждая минута его усугубляла. На Марине уж лица не было: она дрожала, кровь приливала ей то к неровно бьющемуся сердцу, то к горячей голове… Часы пробили сперва два… потом половину, скоро три… и наконец половину четвертого… Начинало смеркаться, потемнело, улица пустела, пешеходы и экипажи редели… Уж горничная Марины пришла сказать, что она вернулась и успела все приготовить для одеванья. Уж внизу начинали суетиться, освещая подъезд и лестницу и поговаривая о карете для барыни; уж она сама, утомленная и недвижная, покидала окно в немой безнадежности, как вдруг улица снова оживилась мчавшими санями, и вот они остановились у дома, и вот дверь в сенях с шумом растворилась, поспешные шаги раздались… приблизились, и Борис раскрыл дверь и приподнял ковровую портьеру кабинета. Марина, себя не помня от волнения, бросилась к нему навстречу. Он сжал ее крепко в своих объятиях, расцеловал у ней руки, он казался весел, доволен… «Наконец, — вскричал он, — наконец я тебя вижу, бесценный ангел мой!.. Представь себе, я только что освободился, целое утро спешил к тебе и все не мог! Я думаю, уж слишком два часа?..»
— Два, — проговорила Марина слабым голосом, — два!!. сейчас будет бить четыре!..
— Четыре!.. возможно ли, мой друг?.. Нет, ты ошибаешься; или часы неверны! (он взглянул на севрскую фарфоровую группу, венчающую над камином бронзовый цокль, в котором был вделан циферблат, и сличил его стрелки с своими часами). Ах нет!.. Они идут ровно с моими, как мы их вчера поставили, это я опоздал!.. А ты меня давно ждешь?
— Давно, — с утра! я нарочно к обедне не поехала, никого не принимала, не завтракала…
— Не завтракала! — зачем же так расстроивать все твои привычки?.. это совсем лишнее, моя дорогая!
— Ведь ты писал, что сейчас будешь, вслед за своей запискою, я все ожидала!.. Но ты хочешь курить, ищешь огня?
И снова оживленная и прыткая, как газель (сравнение, приисканное для нее Борисом, по томной красоте и блестящей влажности черных глаз у обеих), она мигом достала спичек, зажгла свечи в двойном подсвечнике на геридоне и подошла к нему с огнем в одной руке и китайским ящичком, полным душистых сигареток, в другой руке. Он поспешил освободить ее от двойной ноши, и только в эту минуту, при ярком сиянии, бросаемом на нее двойным подсвечником, заметил, как она бледна и расстроена.
— Марина, ангел мой, моя возлюбленная, что с тобою?.. что сделалось?.. ради Бога, не скрывай от меня, скажи скорее!
— Что сделалось, Борис? Ничего особенного, но я так измучилась, ожидая тебя!
— Дитя!.. когда ты перестанешь ребячиться и отравлять наше счастье твоим всегдашним беспокойством?.. что тебе было так волноваться, ведь ты знала, что я буду?
— Ты писал, что сейчас, — я поверила, обрадовалась; потом мне стало так больно, так грустно!.. ты знаешь, как для меня невыносимо ожидать!
— Ангел мой, прости меня! это не моя вина, и ты сама в том уверена! Меня задержали; надобно было завтракать с моими; потом приехала вся родня, следовало принимать гостей и поздравления; потом матушка увезла меня с собою к ее старому дяде, моему двоюродному дедушке… нельзя было никак отговариваться!.. я оставил ее там и прискакал к тебе, как сумасшедший. Вот и все!.. Чем же тут огорчаться и мучиться!
И он стал на колени перед нею и успокоивал ее ласками, как мать убаюкивает неугомонное дитя, не замечая, что докуренный кончик его сигаретки упал на край нового платья и зажег его. Но запах гари охватил обоих, и они принялись тушить вспыхнувшую искру. Однако платье было слегка прожжено.
— Ах, Борис, какой неловкий!.. вечно зажжет меня!.. и новое платье!.. Стоило мне так об нем хлопотать!
— Новое? — в самом деле, — и прелестное к тому же!.. Да как оно вам пристало, моя кокетливая красавица! как вы в нем хороши!..
И он осматривал ее с ног до головы с страстным удивлением и вниманием; он любовался противоположностью богатых узоров старинного кружева, из которого был сделан маленький чепчик, слегка наброшенный на ее голову, и черно-синеватого отлива ее густых волос, спускающихся двумя косами вдоль ее продолговатого и нежного лица. Он был в восторге, он улыбался, торжествовал…
А она?..
Она провела пять мучительно длинных часов напрасного ожидания… она выстрадала все, что можно было выстрадать от обманутой надежды, от потерянной радости, от беспокойной неизвестности… Ее душа и сердце были расстроены на весь день… Она не могла себя пересилить, и принимая его ласки со всею благодарностию безумной любви, она все-таки оставалась томна и грустна, как молодая пальма, смятая бурею и не вдруг оживающая под дыханьем благотворно просиявшего дня.
Он заметил. Он стал расспрашивать. Ему больно и досадно было, что его присутствие и ласки не прогоняют тучи, омрачившей многолюбимую.
— Борис, — отвечала она кротко, но твердо, — не допрашивай меня, не утешай и не смейся надо мною! Это не поможет!.. Вы, мужчины, не можете нас понимать, а еще менее с нами равняться. Конечно, мы глупы, мы слабы, мы дети, что так томимся и мучимся тем, что для вас кажется и остается безделицами. Но разве мы радуемся, что нас Бог такими создал? разве мы добровольно поддаемся слишком страстным движениям нашего ненасытного сердца?.. Разве от нас зависит не чувствовать, когда нам чувствуется, не плакать и не терзаться, когда нам больно?.. Вот ты упрекаешь меня теперь, что я задумчива и тосклива: но если бы ты видел меня давеча утром, если бы ты приехал, когда обещал, ты скорей дивился бы моему веселию, моей безумной радости! Ты говоришь, что ты не виноват, что так опоздал, что тебя увезла мать твоя, что тебе также было досадно и грустно; это может быть правда, но тем не менее, мой день, мой Новый год, столь ожидаемый, пропал даром, и покуда ты по крайней мере не замечал хода времени, занимаясь посещениями и роднёю, я просидела тут одна, прождала, промучилась, как души чистилища, всегда ожидающие минуты избавления и всегда обманутые в своей надежде; я пересчитала каждый час, каждые полчаса, каждую четверть; я истощила все силы в этой пытке, чем же она мне заплатится?.. Вот и вчера: я без тебя протосковала целый вечер; от этого я провела дурную ночь… от этого я жаждала сегодняшнего утра, чтоб заменить наш вчера расстроенный вечер, чтоб наглядеться на тебя, наговориться с тобою, и что же вышло… ах! правду сказал тот поэт, который довольно понимал женщин, чтоб вложить в уста одной из них, тоже обманутой в долголелеянной надежде, этот стих, полный для нас значения и уроков:
«On prívoit un plaisir, — c'est un chagrin qu'on a!»[8]
Борис опустил голову и молчал! Чем мог он ответить, чем опровергнуть логику Марины и любви?.. Да, и канун праздника, и самый праздник, все было у них испорчено, отнято; всем пожертвовал он семейству! матери, светским и родственным отношениям, а любимая женщина, а то сердце, которое было ему всех ближе и дороже, он осудил на страдание и томление… почему?
Потому, что Борис был слаб, слаб характером и духом, и не мог противостать ни людям, ни вещам, умевшим его оплести привычкою и предубеждениями.

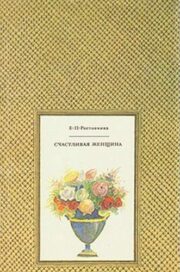
"Счастливая женщина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливая женщина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливая женщина" друзьям в соцсетях.