Когда Борис вернулся в родительский дом и столичное общество после долгого отсутствия, семейство его ожило и одушевилось, видя, как его везде принимают. И покуда Борис, увлеченный своим упорным преследованием Марины, оставался непременным соучастником, неизбежным лицом всех балов и праздников, Ухманские вращались всюду около него, как спутники около своей планеты, и почитали себя обязанными восхищаться тою женщиною, которая более всех прочих его привлекала. Во весь период романа этих врагов-любовников, вечно ссорящихся и страстно влюбленных, не было конца ни меры похвалам и панегирикам несравненной Марине в доме Ухманских. Любимый их разговор был о ее вчерашнем наряде, о последней остроумной фразе, ею сказанной, о цвете ее глаз, о форме ее рук и ног, о роскоши шелковых длинных кудрей, рассыпанных по плечам и груди ее. Если можно было возвысить Марину в глазах Бориса и еще более воспламенить к ней молодого человека, то Ухманские, конечно, в том успели — так усердно, хотя бессознательно хлопотали они о том. Не раз пытались они сблизиться и познакомиться с предметом их общей, эпидемической прихоти, но Марина, как бы охраняемая тайным предчувствием, всегда отклоняла такое сближение. Избегая Бориса, она очень естественно должна была избегать и семейства его, а положение ее в свете, как молодой дамы, отделяло ее равно от сношений с старыми матушками и с молодыми девушками. И так, без всякой неучтивости, она могла не переступать, в отношении к Ухманским, за черту самых обыкновенных поклонов и обмена двух-трех слов в зиму.
Но когда до Ухманских дошло, что их Борис не шутя влюблен в Ненскую и проводит у ней большую часть дней своих, — они пришли в негодование, достойное поспорить с добродетельным восстанием Горской, и досада их на Марину разразилась громом обвинений и проклятий.
Она отнимала у них сына и брата; она удаляла его от исполнения всех светских и семейных обязанностей; она занимала у него слишком много времени; она могла повредить его карьере, помешать его ходу (неизвестно, впрочем, куда он шел и чего хотело для него их честолюбие!), она должна была погубить, да, она губила его! С той минуты все человеческие и нечеловеческие усилия были употреблены Ухманскими, чтобы исторгнуть Бориса из цепей его чародейки. Не было дня, чтоб не возобновлялись к тому неисчислимые попытки. То откровенно упрекали его в холодности его к семейству и в пожертвовании всех прежних, Богом и природою врожденных привязанностей, одной новой, и притом непозволенной. То косвенно и с хитросплетенными уловками нападали на женщин, забывающих свои обязанности и смеющих любить постороннего, чужого им человека… То прямо обращались к его сыновней и братней любви, к его благодарности, к его сердцу, и ради всех этих причин просили забыть, бросить коварную кокетку. Мать с искренними слезами и с настойчивостию женщины, привыкшей повелевать всеми своими и не видавшей дотоле себе сопротивления, мать бросилась на колени перед Борисом, заклинала его не огорчать, не убивать ее. И когда удивленный сын хотел знать, чем и как убивает он свою мать, всегда свято им уважаемую и любимую, то начинались нескончаемые проповеди и наставления, всегда приходящие к одному заключению — необходимости разлуки его с тою, которая отдала ему жизнь свою, отдавая свою любовь и свое сердце!
Эти терзания томили Бориса несказанно и отравляли ему все счастие его, которое было столь ново и столь полно. Одаренный утонченною, почти женственной чувствительностью, он с трудом переносил пытку, от которой всякий другой, более твердый и более самостоятельный, отшутился бы одним решительным словом. Там, где надо было или тотчас положить конец всем допросам и расспросам сильным и безвозвратным отрицанием, недозволяющим даже родственному любопытству проникать в заветные тайны двух сердец, или признанием того, что он чувствовал, и своего мнения о подобных отношениях, скрепить и возвысить в глазах семейства клятвы, им данные, и верность, ставшую ему долгом, Борис все испортил своею уклончивостию. Он хотел все согласовать, всех примирить, как в своем сердце, так и в разделе его жизни; он надеялся, не ожесточая своих и всего более матери, усыпить все требования, успокоить все опасения своего семейства — и сохранить притом любовь Марины. Он ошибся!
Но за эту ошибку должен был платить не он один: Марина более его страдала и терпела от нее!
Когда Борис был у нее и с нею, чудная заря их восторженной любви светила на него всеми своими лучами и душа его просветлевала и согревалась; в теплой, благотворной атмосфере, где жизнь была ему легка, где сердце его было полно и довольно, где счастие улыбалось ему глазами милой, любимой и многолюбящей женщины, Борис становился еще лучше, еще добрее, чем бывал обыкновенно; мысли его возносились далеко и высоко над всеми мелкими неприятностями жизни, он забывал все, что было не Марина, и не постигая ничего в мире выше ее любви, ничего не желал, ничего не хотел, кроме ее… Если пылкое упоение недавнего блаженства владело вполне его чувствами, его страстями, то не менее того наслаждался он другою, высшею отрадою — разделять свои мысли, свои думы, всю душу свою, с существом, столь ему сродным, что оно казалось ему вторым и лучшим его я. Это духовное соединение, умножающее существование каждого из двух, сливая их обоих вместе, еще более сближало двух счастливцев, и, расставаясь каждый вечер, после нескольких часов, проведенных в неумолкаемом обмене всех их помыслов и ощущений, им казалось невозможным разрознить свои души и сердца. Их души спаялись в огне вечно пылающей страсти, самая короткая разлука была им мучительна. Марина, как женщина, сильнее и живее ощущала это впечатление; однако и Борису минута расставания каждый раз была, тяжелой необходимостью. Несколько раз прощался он с нею, несколько раз возвращался, опять садился у ног ее, опять прижимал ее страстно к своему сердцу, как будто в век не хотел и не мог с ней разлучиться; доходил до дверей — и вновь вспоминал, что оставалось что-то ей досказать; жадно ловил еще взор, еще слово, еще ласку, и наконец, решившись уйти, отрывался от нее как безумный, в чаду благополучия, превышающего силы человеческие, с сердцем, равно томимым воспоминанием и надеждою!
Но дома ожидала его иная жизнь, другой мир. Но переступя порог родительского крова, молодой человек был как бы облит вдруг льдом с головы до ног, и боязнь ожидаемых истязаний поглощала мало-помалу его радость, его светлую мечту о милом завтра, о новой встрече. Входя в чинную гостиную своей матери, где зеленый штоф мрачно и резко оттенял золоченые рамы дедовских портретов и не менее сухие лица раздосадованных родителей, Борис чувствовал себя обданным скукою и скованным оцепененьем. Он перерождался; он отталкивал от себя откровенность и простодушие, чтоб принимать вид холодно-спокойный, чтоб войти в роль строгого бесстрастия. Вместо улыбки, вместо привета его ожидали едкие вопросы, колкие намеки, недоброжелательство, очевидное и еще более ощутительное в каждом слове, в каждом взоре, в каждом движении. В семействах первая любовь молодого человека вменяется ему в какое-то преступление против самой семейственности: та, которую он любит, если она не очень блистательная и богатая невеста, становится общим врагом, страшилищем, о котором и слышать никто не хочет, предметом ежечасных раздоров и камнем преткновения домашнего мира, как бы возвышенна и трогательна ни была любовь ею чувствуемая и любовь ею внушаемая.
Борис, обожаемый и балованный до той поры, не мог забыть прежней ласки и прежнего пристрастия своего семейства. Его кроткая и любящая натура прощала оскорбления и помнила только добро. Он говорил себе, что его родные заблуждаются, и довольствовался тем, что избегал всех поводов и случаев к возобновлению споров, но не уступая им ни на шаг в глубине и тайне своего сердца и думая, что этого довольно для невредимости его любви. «И овцы целы, и волки сыты» была обыкновенная его поговорка самому себе, когда он вырывался из средины домашнего круга, успев отвратить расспросы и догадки об его отсутствии и употреблении дня. Выигранный вечер, промежуток спокойствия казались ему значительною победою, и он радостно и восторженно предавался мечтам о своей Марине, о своем благополучии, пока в гостиной против них и против него составлялись новые заговоры.
К Ухманским езжало много коротких знакомых. У старших барышень были свои ровесницы — зрелые и перезрелые девицы, подобно им не вышедшие замуж за неимением женихов, или дамы, уже отцветавшие и потому готовые гнать и ненавидеть всех дам цветущих и завидуемых, в числе и главе коих была всюду превозносимая Марина Ненская. В свете, на каждом шагу, и между самыми безвредными, благонамеренными существами, беспрестанно возобновляется история того афинского обывателя, который, не знавши Аристида, хотел его изгнания, потому что, говорил он, — «скучно слушать, как все хвалят этого Аристида». Похвалы и внимание, расточаемые кому-нибудь, доставляют ему тысячи врагов, которые и в глаза его не видали. Оттого у бедной Ненской было так много врагов и оттого все приятельницы старших Ухманских с такою радостию принимали и повторяли, разумеется преувеличивая их, жалобы на Марину, издыхаемые сестрами Бориса. Скоро в этом кругу и во всех прочих к нему примыкавших не было другого разговора, как про бесстыдную связь и гнусные проделки Марины с Ухманским, и счастливая женщина, хранящая свою тайну, как заветный клад, не дающая ни малейшего повода к подозрениям и пересудам, была оглашена, растерзана и посрамлена злоязычием прежде, нежели она успела спросить себя, откуда падало на ее голову такое раздражение всех злословий и клевет.
Откуда?..
Разумеется, из того самого дома и семейства, где всего более должны были щадить и оберегать ее, если бы согласные и примерные семейства понимали, что значат и чего требуют взаимные отношения чести и дружбы между родными!
Когда шум был произведен и всеобщее восстание праздного злоречия, ядовитой зависти и притворного смиренномудрия успело уже помрачить славу и имя Марины, Ухманские стали упрекать Бориса в безнравственности Ненской, допустившей про себя такую молву, и добродетельное отчаяние их вышло из меры. Им было и стыдно и страшно за Бориса…

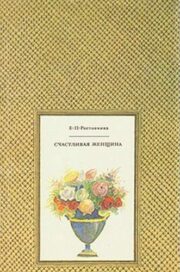
"Счастливая женщина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливая женщина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливая женщина" друзьям в соцсетях.