— Можно устроить состязание, — подал голос долгое время молчавший Эпифокл. — И я тоже хочу принять в нем участие. Признаюсь, пение этого дивного мальчика растрогало и мое старческое сердце, и я почувствовал, что у меня в груди тоже зашевелились кое-какие звуки. И вообще: подайте мне тоже чашу с вином! Оставлю-ка я кашу доедать старому, беззубому Харону и его приспешникам, а мы еще повеселимся.
— Состязание? О, только не сейчас, — страдальчески наморщила лоб Сапфо. — Сегодня я не слишком здорова.
— Хм, хм, нам некуда торопиться, — заявил Эпифокл, быстрыми, торопливыми глотками осушая чашу и стараясь скорее наверстать упущенное, словно именно на дне чаши хранилось хорошее настроение. — Я хотел бы остаться здесь на несколько дней. Многое из того, что я вокруг себя вижу, подтверждает мою величайшую теорию, и мне интересно было бы, разумеется, с разрешения гостеприимных хозяев, кое-что попытаться проверить и на практике.
Сапфо кивнула — не могла же она сказать знаменитому философу и к тому же пожилому человеку, чтобы он катился отсюда подальше своей дорогой?
И потом — досадно упускать возможность близко пообщаться со столь знаменитым ученым мужем только из-за одного непонятного настроения.
— Но как же тот корабль, на котором вы должны были уплыть? — только и спросила она.
— Хм, меня там будут ждать ровно столько, насколько я пожелаю задержаться, — с довольным видом пояснил Эпифокл. — Владелец триеры дал клятву быстроногому Гермесу, что без меня не отправится к берегам Фасоса.
— Прекрасно! Тогда я тоже остаюсь! — воскликнул Алкей. — Мы проведем здесь поэтический турнир, и это будет настоящий, большой праздник. Можно даже в честь нашего юного певца назвать его «фаониями». Как я придумал?
— Ой, не знаю… Наверное, я не заслужил, — смущенно пробормотал Фаон.
— Нет, заслужил! Для того чтобы получить награду, вовсе не обязательно петь громче всех или длиннее всех, разве не так? — пояснил Алкей. — Ты сам видишь, Фаон, твоя коротенькая песня — несмотря на то, что ты чаще всего брал совсем не те ноты, какие было нужно, — все равно сумела совсем в другую сторону повернуть события. Теперь ты понимаешь, какой силой обладает настоящее, искреннее искусство? Сильнее этого — только любовь.
Фаон буквально сиял от удовольствия — еще бы, он не только без особого труда вошел в круг всех этих взрослых, знаменитых людей, но сразу же оказался в самом центре всеобщего внимания.
Неужели и правда Алкей назовет состязание «фаониями»?
Значит, вот так запросто, волей случая, оказывается, делается слава?
Фаон посмотрел на Сапфо, которую он был должен в первую очередь благодарить за такое количество разом полученных наслаждений, включая вкусные кушанья, вино, а теперь еще и внезапную известность, но она сидела почему-то без тени улыбки на лице и лишь нервно покусывала и без того алые от гранатового сока губы.
Юноша тоже постарался сделаться серьезным: может быть, сейчас он ведет себя не очень правильно и нужно было более твердо отказаться от предложенных почестей?
Но губы Фаона все равно буквально помимо его воли расплывались в победной улыбке, обозначая на щеках еле заметные ямочки и придавая его лицу еще более мальчишеский, задорный вид.
Сапфо, конечно же, поймала на себе удивленный взгляд Фаона, но только еще больше нахмурилась и отвернулась.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены…[14] —
продолжали возникать из небытия строчки, которые сейчас для Сапфо выполняли роль якоря — хотелось в них вцепиться обеими руками и ногами, чтобы не захлебнуться: «…Дрожью члены все охвачены… Дрожью…»
— Какую мерзкую кашу готовит ваша кухарка! — заявил Эпифокл, поглаживая свой живот и обращаясь к Диодоре, привычно прислуживавшей за столом. — Эй, служанка, а нет ли у вас свежих устриц, вымоченных в белом вине и лимонном соке?
— Нету, — поджала губы Диодора.
— Так я и знал! Ну, а хотя бы тогда щупальцев осьминогов, приготовленных с острыми специями? Меня угощали таким блюдом в столице, в доме Мнесия, и я до сих пор не понимаю, как не откусил свой язык, настолько это вкусно!
— Лучше бы откусил, хилосох обжорливый, — пробормотала себе под нос Диодора. — Меньше было бы хлопот добрым людям и заодно набил бы языком свое пузо…
У Диодоры была странная манера разговаривать как бы про себя, но так, что тем, кто находился ближе всех — а сейчас это была Сапфо, — ее рассуждения хорошо было слышно.
Вообще-то Диодоре было уже так много лет, что многие были уверены, что старушка давно заговаривается и не дружит с головой, но Сапфо прекрасно знала, что ее служанка просто любит делать вид, что выжила из ума, а сама, наоборот, была «себе на уме» гораздо тверже прочих.
— Вообще-то здешние курочки и голубки, раз уж вы тут толкуете про курятники, привыкли с утра по зернышку клевать, чтобы легче бегать и летать было, — вслух сказала Диодора, обращаясь к философу. — А то ненароком можно и разжиреть, как куропатки, и к кому-нибудь на зуб попасть. Вон тут еды сколько много, которую вприкуску со своим языком есть можно, а тебе все мало!
— Хм, хм, а тебе, я вижу, лучше на зуб не попадаться, старая, — покачал головой Эпифокл, послушно пододвигая поближе к себе блюдо с оливками. — Признаюсь, друзья, ваше общество настолько разожгло у меня аппетит и привело в самого себя, что я готов прямо сейчас, не сходя с места, познакомить всех со своими последними открытиями, которыми я еще никогда прежде не делился вслух. Но только в том случае, если, хм, хм, у вас имеется желание меня выслушать.
— Конечно, мы уже давно только этого и ждем, — ответила за всех Дидамия, и Сапфо увидела, что в руках у подруги тотчас же мелькнула покрытая воском гладкая дощечка для записи.
Дидамия как-то сказала, что ей жалко расставаться с этой вещью даже во сне: она и себя тоже постоянно ощущает похожей на таблицу, на которой уже разгладились старые записи знаний и поэтому требуется поскорее нанести новые, еще более достоверные.
Остальные участники застолья тоже все как-то подобрались, готовясь выслушать знаменитость.
Эпифокл для порядка немного похмыкал, но потом громко, серьезно и достаточно складно, словно он сейчас держал речь не за столом, а перед огромным скоплением людей, принялся излагать свои измышления.
Сапфо сначала слушала его рассеянно, задумчиво скользя взглядом по посуде и предметам на столе, стоящим ближе других к Фаону, но постепенно и ее увлекли мысли философа.
По Эпифоклу, корнями, первоосновой всех вещей являлись огонь, вода, воздух и земля, которые не могли превращаться друг в друга, но зато обладали способностью смешиваться и соединяться.
И Эпифокл вообще пришел к мнению, что весь мир существует только благодаря соединению и разделению маленьких частиц, и причина соединения этих первоэлементов одна — любовь, а разъединения — сильная ненависть.
«Все правильно: любовь и ненависть, а больше совсем ничего…» — подумала Сапфо.
Пользуясь тем, что взоры присутствующих теперь были обращены на ученого, Сапфо украдкой поглядела на Фаона и увидела, что тот вовсе невнимательно слушал мудрого Эпифокла.
Юноша сначала смеющимися глазами следил за тем, как бегал по стенам солнечный зайчик от гладкого браслета на руке Дидамии, быстро водившей своим стилом по таблице, но потом начал неотрывно смотреть куда-то в сторону окна, и при этом на губах Фаона застыла нежная, удивленная улыбка.
Сапфо с интересом проследила траекторию его взгляда и поняла, что Фаон увидел большую бабочку-махаона, случайно залетевшую в зал через открытое окно и примостившуюся на освещенном солнцем листе комнатной гортензии.
Бабочка действительно была неестественно крупной, с дивными, узорчатыми крыльями, и казалась далекой, заморской гостьей.
У Сапфо даже сердце сжалось при мысли, что, глядя на нее, Фаон сейчас наверняка переносится мыслями в далекие города и страны, которых никогда не видел, и мечтает о скором отъезде.
Или просто любуется неповторимым, созданным богами узором на трепещущих крылышках?
А ведь и то правда: какое дело этой бабочке до заумных изречений Эпифокла, если она догадывается о скорой зиме и о том, что порхать ей здесь осталось совсем недолго?
И какое дело Фаону, неуловимо чем-то так похожему на эту бабочку и на свою мать — маленькую Тимаду, — до теорий ученого мужа?
Похоже, они его нисколько не интересовали и касались сейчас головы Фаона еще меньше, чем легкий ветерок, тихо раскачивавший занавеси на окнах и ненароком занесший в дом прекрасную гостью.
И Сапфо впервые подумала, что в таком полном безразличии к философским рассуждениям тоже есть своя правота, доступная не всем.
Но о ней знали Фаон, бабочка, цветок, ветер, гранатовые зерна на блюде — и все те, что сейчас словно участвовали в молчаливом заговоре против тяжеловесных, человеческих раздумий о смысле всего сущего, предпочитая просто самим быть этой таинственной сердцевиной жизни.
И Сапфо показалось, что именно Фаон больше, чем кто-либо другой, на самом деле связан с окружающим миром, без всякой «проблемы связанности», по-настоящему прочными, любовными узами, о которых так длинно и многоумно распинался Эпифокл.
И Эпифокл, и Дидамия, и Алкей, и остальные «застольники» вдруг показались Сапфо почти что незрячими — они сидели спиной к бабочке.
Но Сапфо все-таки сделала еще одну попытку вникнуть в последние выводы философа.
Да, именно «категории любви и ненависти» Эпифокл с упорством настоящего ученого называл главными, движущими и одновременно скрепляющими силами всего сущего, без которых материальный мир начал бы сразу же безвозвратно рассыпаться на мелкие части.
— Как же, любовь у него, желание — тоска по сладким пирогам, — еле слышно пробормотала старая Диодора.

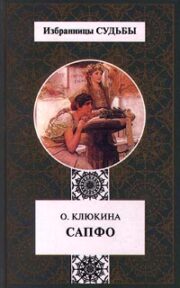
"Сапфо, или Песни Розового берега" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сапфо, или Песни Розового берега". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сапфо, или Песни Розового берега" друзьям в соцсетях.