Кристина выпила залпом полчашки кофе и проглотила тост с икрой, протянутый Надей.
— Да, не просто все же денежки нашему брату достаются… — с жалостью посмотрела на подругу Надя. Жалеть она любила, это куда приятнее, чем завидовать. — Хоть бабки-то приличные привезла?
Кристина отрицательно покачала головой.
— Думала, что на однокомнатную хватит… Копила, копила, на всем экономила… Мои-то новобрачные в центре квартиру хапнули. Но в нашу «хрущобу» Фил свою бывшую жену с дитем заселяет. Это они решили, когда я в Италии была. Думали, там и останусь… Теперь надо о своей хате думать, но Филек материн говорит, что за двадцать тысяч баксов можно только в Подмосковье отдельную присмотреть или хорошую комнату в коммуналке.
— Двадцать тысяч?! — Надя не верила своим ушам, ощутив новый прилив приятнейшей жалости. Жалости к слабому, сирому, убогому. Не живучая это порода, вырождающаяся. Наследие совдеповской деловой импотенции — слабаки, сентиментальные олухи.
— Да, ты, Тинка, отличилась… Бескорыстная служба на ниве капитализации. Про тебя только в «Московский комсомолец» писать. И то, лет десять назад в рубрике «моральные ценности строителей коммунизма»… Извини, даже здесь сейчас самые провинциальные чувырлы за ночь минимум 500 баксов гребут…
— Мне больше предлагали, — жуя третий бутерброд, заявила Кристина, не став объяснять подробности. — Пять кусков.
— И что? — изумилась Надя. — Что хотели-то?
— Обычной страсти. Без любви, конечно.
— Как без любви? Нечто новое. Это в чем же тогда страсть состоит?
— Ах, ты не поняла, Надь… У меня язык заплетается… Ну, обыкновенно, трахаться на ночь снимали. А я хочу настоящей любви. Такой, знаешь, захватывающей, необычной.
Надин опешила. Пожав плечами, она запахнула на груди пеньюар.
— Это ты на что намекаешь? На лирику или на отклонения?
— Извини, Белоснежка, что такие слова употребляю — старомодные. Вышедшие из употребления. Твой жених-то, наверное, влюблен, а?
— Жутко! Не знает, чем еще ублажить. И ревнив, как мавр! Но однажды… Ой! — Надя залилась радостным смехом. — Однажды мы разбирались, кто с кем чего… ну, завелись… А Витька покачал головой, печа-ально так, и говорит: «Угораздило же меня в такое дерьмо втрескаться!» Считаю, отменное признание в любви!
— У меня и такого не было. Нет, конечно, всякие слова красивые говорили, — вспомнила Кристина вчерашнее страстное признание Геннадия. — Но… не верю. Не хочу верить. Ладно, у тебя скоро визитеры, а я к бабке собралась. Только раз с ней после приезда виделась — и то в толкучке. Поздравить она молодоженов заезжала. Но у нас ночевать негде пока — Фил новые апартаменты обещает к осени жене преподнести. Так что почти и не поговорили со старушкой. — Кристина порылась в сумке и вытащила сафьяновый футляр:
— А это тебе подарок.
Надин ахнула, вытряхнув на стол сверкающие колье и диадему:
— Это что, те самые?!
— Да, считай, музейная ценность. Целый месяц в сейфах римского криминального отдела хранились, принимали участие в судебном процессе в качестве вещественного доказательства… Мне за них, кстати, приличные бабки предлагали любители детективных раритетов. Вот здесь, в центре, пустой глаз — как раз от настоящего бриллианта. Остальные, увы, стразы.
— Ну, девушка, угодила! Это же настоящая сенсация! Мой Новый упадет от восторга. Принимаю в качестве свадебного подарка. Потрясла меня, Тинка!
Надин поцеловала подругу и, примерив диадему, глянула на себя в коридорное зеркало.
— Именно этого мне и не хватало!
Черный кофе подействовал как снотворное. В электричке Кристина уснула с приятным чувством удавшейся мести: эту диадему вместе с «Голубым принцем» она подарила Санте, а теперь отдала Надьке. Она освободилась от вещицы, тянущей шлейф воспоминаний. Самых разных и, что, самое обидное, — отчасти трогательных. Никогда теперь она не будет мысленно возвращаться в то раннее утро, когда неслась в Рим по автостраде с веселым певцом. В салоне пахло сосновыми ветками и звучал его голос. А в душе расцветали надежды — переливчатые, летучие, как мыльные пузыри… Потом они остановились у ее отеля и Кристина вынесла Санте сафьяновый футляр…
…Анастасия Сергеевна наскоро обняла внучку у калитки и подтолкнула к дому.
— Хорошо, что протопить успела — третью ночь у соседки ночую. Одинокая она, ну, ты знаешь, Фокина. Гипертонический криз в пятницу был, «скорую» вызывали, еле в чувство привели. Теперь одна спать боится; помру, говорит, никто и не узнает.
Бабушка поставила на плиту чайник, обмахнула тряпкой вытертую клеенку, знакомую — в розочках. Кристине стало совестно. Помимо ее жизни, ее проблем, совсем рядом существовали другие, куда более прозаические и страшные. Какое дело этим огородным бабкам до светских сплетен, показов «высокой моды», мафиозных разборок? Душещипательных романов и волнующих тайн им теперь с лихвой хватало в мексиканских и бразильских телесериалах.
— Спасибо демократам, что дали на старости лет настоящую жизнь посмотреть, да ведь и жизнь не простая штука… Наша докторша Татьяна Леонтьевна после «Дикой Розы» весь поселок обегала. Там Веронику Кастро похитили, ну, эту — Розу. И все старухи влежку — никакого валокордина и нозепама не напасешься…
Бабушка, коротко повыспросив у внучки про Италию, с интересом перешла к своим проблемам. Оказалось, что чужеродные Луисы, Хулио, Альберто и Эстебаны стали здесь такими же реальными персонажами, как алкаш Фомка Козловский, терроризировавший нецензурным пением всю улицу. «Мне сегодня хорошо, мне сегодня весело: моя милка мне на х… бубенцы повесила!» — нагло распевал он в праздники, пренебрегая патриотическими песнями.
— На прошлое лето пожаловаться не могу. Одних огурцов тысяч на сто продала, слив было — завались и, конечно, цветочки, — похвасталась Анастасия Сергеевна.
— А что, наши цветы все идут? Ведь теперь в Москву столько импортных завезли — красота! Розы — на метровых ногах и любых расцветок. У них ведь там теплицы огромные и все на компьютерах.
— А здесь на своем горбу, — то ли с гордостью, то ли с горестью сказала бабка. — Гладиолусы сырость съела, гиацинты обмельчали, подмерзли, что ли. Стебли тонкие, еле-еле соцветия держат. Ты бы мне оттуда хоть какой-нибудь редкий цветок привезла, как у этих, что в киосках торгуют. Семян-то сейчас навезли полно, только редко из них что выходит.
— Природные условия у нас другие: «зона рискованного земледелия»… В Италии этих гиацинтов — как у нас клевера. Правда, правда! А цветы мы с тобой хорошие обязательно посадим. Я ведь пока здесь жить буду.
— Как «пока», лето, что ли? Мать намекала, что Филимон тебе квартиру подыскивает, но говорит, планы у тебя пока не ясные. — Бабушка поставила персональную Кристинину чашку с медвежонком, уцелевшую еще из детского набора, и пододвинула тарелочки с пирожками. — Ешь, ешь, твои любимые, с яблочным повидлом и черникой. Черничные пироги меня еще свекровь печь научила, мол, старинный семейный рецепт. И уж больно мудреный — возле теста даже шуметь нельзя. Оно и сквозняков боится, и перегреву… Я теперь по-своему делаю.
— Вкусно. Люблю, когда начинки много. Как это она у тебя не протекает? — задумчиво рассмотрела Кристина пирожок и тут же спросила: — Ба, расскажи про деда, что расстреляли. Ну, мужа твоего…
— Чего ты вспомнила? Реабилитированный он, все документы есть. Еще при Хрущеве выдали.
— А фамилия его какая? Павлухин — это ведь от твоей свекрови? А ее муж кто был?
— Ерунда это все, внучка. В те годы много клеветали и многого боялись, фамилии, созвучные дворянским, скрывали. А теперь наоборот — все, оказывается, князья и графья, Голицыны да Юсуповы. Бородки отпустили и в своем Дворянском собрании заседают… Прадед твой был человек интеллигентный, мягкий, царство ему небесное. Да я его и знала-то совсем немного, а потом, когда мужа сослали, как родственника врага революции, — возненавидела. Сам свекор к тому времени уже покоился на старом московском кладбище. И фамилия под крестом выбита — Шереметев. Только зря все это, ошибка! Совпадение — и больше ничего! Уж сколько я по начальству ходила, доказывала, говорят: «Вы что, гражданочка, не доверяете компетентности наших органов?..» Будет прошлое ворошить. Ты лучше мне свое будущее опиши — на что теперь замахиваешься?
— Во-первых, на диплом о высшем образовании. Хочу переводчицей стать и еще какую-нибудь деловую специальность получить — вроде менеджера, секретаря… Но это уже чуть позже… — Кристина замялась, не зная, посвящать ли бабушку в свои планы на материнство.
— Значит, моды показывать больше не будешь? А иностранцам откажешь — от ворот поворот? Что так? Все, наоборот, туда рвутся. — В бодром тоне Кристины Анастасия Сергеевна почуяла что-то неладное.
— У каждого свое. Мое счастье, видать, здесь. Значит, буду искать. И знаешь, — Кристина обняла бабушку и шепнула в ее шерстяную, пропахшую дымом линялую кофту: — Я тебе скоро правнучка принесу…
После долгих оханий и всхлипов бабушка успокоилась и даже стала уговаривать Кристину верить в светлое будущее. Привела примеры из двух сериалов, где намучившиеся героини все же надевали подвенечное платье, предъявив рожденных в гордом одиночестве сыновей своим любимым. И детишки, уже подросшие и очаровательные, оказывались очень кстати в счастливой молодой семье.
Прошло два дня. Кристина вздрагивала от каждой останавливавшейся поблизости машины. Но Геннадий не появлялся. Она приняла твердое решение деликатно отказать ему и старательно «накачивала» негодование — уж очень была похожа внезапная вспышка страсти русского богача на неожиданные симпатии лже-Стефано. Но то, что Геннадий так легко отступился от своих намерений, несколько обижало. Порой казалось даже, что опять проморгала она сдуру нечто ценное. «Пуганая ворона и куста боится», — посмеивалась она над своими опасениями. Нельзя же теперь, в самом деле, в каждом разбогатевшем гражданине РФ видеть мафиози, а в любом мужчине, признающемся в нежных чувствах, подозревать корысть?

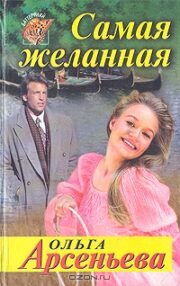
"Самая желанная" отзывы
Отзывы читателей о книге "Самая желанная". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Самая желанная" друзьям в соцсетях.