— Где она? — вымолвил он после мучительно долгой паузы. — Там ночью… У Гронвуда… Она успела уехать?
— Нет.
Генрих и впрямь делал Артуру неимоверно больно. Хотя нет, не Генрих. Это сделал кто-то другой. Ибо Артур понял, что та, которую он так любил, стала жертвой чудовища, ее честь погублена, и сама она… Генрих рассказал, что Милдрэд Гронвудская и поныне живет с Юстасом, что родила ему сына и даже настаивает, чтобы он развелся с принцессой Констанцией и женился на ней. Но Генриху это на руку, ибо, идя на поводу у своей настойчивой возлюбленной, Юстас потерял такого могущественного союзника, как Людовик Французский, и испортил отношения с Папой Адрианом.
Артур слушал его, и в глазах его пылала боль.
— Я не верю, что все это так. Моя Милдрэд не такая. Она гордая и смелая. И я люблю ее, несмотря ни на что. Нет, она бы скорее умерла, чем забыла, что сделал Юстас с ее родителями, с Гронвудом…
Генрих вспомнил холодное и надменное лицо Милдрэд Гронвудской, какой он ее встретил в Нормандии. Эта женщина совсем не напоминала ту веселую хохотушку, какую Артур некогда называл «кошечка моя».
— Кто из нас скажет, что понимает женщин? Но все знают, что Милдрэд и впрямь настаивает на браке с Юстасом. А что ей еще делать? Она обесчещена, ее положение может изменить только законный брак. И если ты станешь на мою сторону, Артур, если поможешь мне победить Юстаса…
— Я помогу!
Он вдруг рухнул на колени и обхватил Генриха, прижался к нему.
— Милорд! — Он вскинул голову, в глазах его стояли слезы. — Милорд, я все сделаю, чтобы однажды Милдрэд стала свободной. Ибо я не верю… Не верю, что она так изменилась.
Генрих хотел было отшутиться, мол, теперь, если сам Артур за него, то уж они и впрямь покажут Юстасу. Но не стал этого делать. Более того, он вдруг сделал то, чего у него и в мыслях не было.
— Артур, ты узнаешь этот крестик?
Его брат пребывал не в том состоянии, чтобы обращать внимание на такую безделицу, как алмазный крестик. И Генриху дважды пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Артур кивнул. Да, он его узнает. Его дала ему мать Бенедикта. И просила, чтобы он никогда с ним не расставался. Это он помнит. Ему вообще кажется, что он все вспомнил. Это и облегчение… и такая мука!
— Успокойся, Артур. А теперь погляди вот сюда. Видишь, и у меня подобный крест. Как ты думаешь, почему они так похожи?
Артур равнодушно пожал плечами. Сказал, что, наверное, их делал один мастер.
Все, на этом можно было бы остановиться. Но Генрих уже не мог.
— Послушай, парень, я понимаю, что на тебя сейчас рухнули небеса и мне не стоит нагружать тебя. Но я все же скажу. Может, так ты обретешь хоть какую-то надежду, хоть немного воспрянешь. И это отвлечет тебя от твоей боли. Черт, что-то я сегодня необычно добрый. Хоть плачь, как монахиня в религиозном экстазе, клянусь рукоятью своего меча! И вот теперь… Нет, сейчас ты поклянешься мне, что никому не скажешь, слышишь, никому… Хотя что я говорю! Пусть ты весельчак и балагур, но болтуном никогда не был. И я скажу, что вот этот крестик мне дала моя мать, императрица. А этот — тебе. О Небо! Артур, неужели я мало тебе сказал?!
Генрих стал сбиваться и задрожал. При этом он смотрел на Артура, который с равнодушием разглядывал два одинаковых алмазных крестика на широкой ладони герцога. Да, у этого парня сейчас свои проблемы, ему не до таких откровений. А для Плантагенета это было подобно душевному перевороту, он задыхался. Ему даже захотелось ударить брата, потому что тот такой тугодум и не понимает, что большего, чем сейчас, Генрих ему уже никогда не сделает!
Артур поднял на герцога свои мерцающие темные глаза. Долго смотрел.
— Мы братья, милорд?
— Ну вот, теперь ты почтителен. Боишься меня оскорбить? Да ты оскорбляешь меня уже самим своим существованием! И все же я люблю тебя!
В тот же миг высокий гибкий Артур обнял этого взъерошенного коротышку. А тот уткнулся ему в плечо и даже шмыгнул носом.
Но через миг уже высвободился. Улыбнулся. И Артур улыбнулся ему в ответ. Улыбка у них была одна и та же — светлая, лучистая. Улыбка императрицы, которая, даже обладая дурным нравом, умела пленять сердца людей.
— А теперь уходи, — сказал Генрих. — Тебе надо побыть одному. И много чего обдумать. Только об одном не ломай голову: где будешь служить. Ибо ты уже мой рыцарь. И вместе мы будем только побеждать. Надо же нам свалить этого рябого Юстаса и освободить твою кошечку. Возможно, ты прав и она отчаянно нуждается в помощи. Если ты… ну, если не откажешься от нее. Сам понимаешь, теперь я могу любой брак для тебя устроить.
— Нет. Я должен вернуть Милдрэд. Она — мой далекий свет. Ты же знаешь.
— Ах, ну в этом мы в чем-то похожи. Гм. С чего бы это? Ладно, твоя воля. Мешать не буду. Скорее помогу. Ведь если не я, то кто же еще?
Артур уже выходил, но на пороге обернулся.
— Генрих! Я жизнь за тебя готов отдать.
«Кажется, у меня появился верный человек», — подумал Генрих, прямо в одежде опрокидываясь на кровать. От облегчения он вдруг почувствовал себя неимоверно усталым. Не было сил даже раздеться. Вот он и лежал, улыбался и смотрел на складки полога над головой. «Да, у меня появился верный подданный. Видит Бог, я несказанно рад, что это именно Артур. Думаю, и мать за меня порадуется. Когда я ей обо всем расскажу».
Глава 18
Милдрэд вышивала на темном бархате золотой трилистник. Ей нравилось, как ложились стежки, придавая распускавшемуся на вышивке цветку выпуклый сверкающий контур. При этом она не забывала время от времени нанизывать на нитку мелкие жемчужины — на темно-синем бархате это будет смотреться просто великолепно. Особенно если учесть, что внутри трилистника будет еще вставка розово-рубиновой шпинели.
Последнее время Милдрэд стала отдавать предпочтение одеяниям темных тонов. Она по-прежнему увлекалась шитьем, придумывала фасоны, но если раньше выбирала легкие, струящиеся ткани, то теперь полюбила роскошный тяжелый бархат с богатым декором и сверкающей вышивкой.
Милдрэд работала, удобно устроившись на подоконнике одного из окон лондонского Тауэра. Рукоделие ее успокаивало. Надо же, а ведь ранее, в далекой жизни в Гронвуд-Кастле, мать даже журила ее за непоседливость, выговаривала, что дочь и часа не высидит спокойно и все рвется куда-то. Как же она изменилась с тех пор! Словно, прожив одну жизнь, она рассталась с ней и вступила в другую.
Правда, одно время Милдрэд казалось, что она сможет воспрянуть. Это было при дворе Элеоноры, где царил особый дух праздника, где рассказывали столько интересного, постоянно говорили о любви и веселились. Там душа саксонки начала понемногу оттаивать. Но потом ее вернули Юстасу, и ей вновь пришлось свыкаться с тем, что она принадлежит человеку, который разрушил ее жизнь и который любил ее столь безраздельно и такой страшной любовью, что Милдрэд почти физически ощущала, как страсть принца постепенно высасывает из нее душу.
И все же из Нормандии Милдрэд вернулась несколько иной. Ей не давали покоя слова Элеоноры: «Если вы сломались, значит, всегда были слабой. Ибо удел слабых — подчиняться».
Вот о чем она думала, когда вернулась к Юстасу и снова оказалась его пленницей, охраняемой, запертой и лелеемой. Юстас опять говорил о своей любви, одаривал ее и пытался чем-то развлечь. Она же леденела от одного его взгляда. И все же бывали дни, когда Милдрэд словно выходила из себя, дралась с ним, оскорбляла, а один раз даже попробовала сбежать. Увы, ее быстро настигли, вернули Юстасу, и ей пришлось пережить вспышку его ярости, а потом напор жадной страсти. И случилось непредвиденное. Увы, все же на Милдрэд повлияла любовная, наполненная томлением атмосфера в Кане, размягчила то сжатое, словно в спазме, чувство, всегда владевшее ею, когда принц прикасался к ней. И она невольно поддалась его ласкам, расслабилась, почувствовала рвущееся из ее глубин острое наслаждение…
Юстас это заметил и был ошеломлен. Она же, едва он оставил ее, велела набрать лохань горячей воды и долго мылась, как будто желая смыть с себя это. Что может быть унизительнее, чем принадлежать ненавистному врагу и еще получать от этого наслаждение? Куда еще ниже падать?
И тогда Милдрэд решила, что довольно ей поддаваться. Чтобы хоть немного выйти из-под опеки принца, она настояла на том, что должна иметь доступ к деньгам, какие выплачивали с ее владений тамплиеры. Ранее Юстас наложил на них руку, уверяя, что все сделает для возлюбленной и она ни в чем не будет нуждаться. Теперь же, когда ему сообщили, что Милдрэд запретила тамплиерам без ее ведома ссужать ему деньги, он был просто ошарашен. Пришел к ней, стал объяснять, что эти деньги нужны ему на войну, что казна пуста. Милдрэд просто рассмеялась принцу в лицо: какое ей до этого дело? В итоге она полностью отстранила Юстаса от своего имущества, но при этом продолжала требовать подарки, от его имени раздавала милостыню и пожертвования, распоряжалась. Потом, выбрав удачный момент, заявила Юстасу, что станет относиться к нему совсем иначе, если он сделает ее венчанной супругой. Она все решительнее настаивала на его разводе с Констанцией Французской, ибо понимала: это принесет ему вред и ослабит, лишит поддержки последнего союзника, короля Луи. Юстас пытался ей это объяснить, но Милдрэд не уступала. Она то откровенно выказывала ему неповиновение, то отмахивалась от его доводов и объяснений, что из-за этого к ней самой станут хуже относиться, то вдруг начинала ластиться к нему, умолять. И когда Юстас уступил, когда из-за этого потерял свой последний шанс короноваться, — она возликовала. Милдрэд не была наивной и знала, что таким образом она помогает Плантагенетам, что, возможно, чего-то подобного и добивалась от нее Элеонора, давая понять, что, пока Юстас в силе, она обречена оставаться его пленницей. Если же он падет… Это была слабая надежда, но иного пути к освобождению у Милдрэд не было.

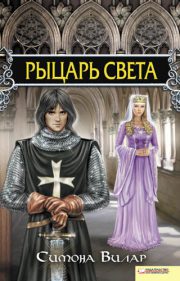
"Рыцарь света" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рыцарь света". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рыцарь света" друзьям в соцсетях.