– Расскажи, расскажи-ка!
Он посмеивается, отшучивается, а самому и тревожно и радостно: ревнует, как свойственно влюблённым. Но загасали и такие разговоры и страсти-мордасти, не ссорили, не разводили по разным комнатам в обиде. Дел в поместье и по дому полно – не до пустопорожних бесед и потока подковырок. К тому же каждый день несколько часов кряду Лев по телефону и через Интернет правил делами на своих фирмах, объектах, отдавал директивы, требовал отчётов, сам составлял какие-то тексты, графики и чертежи и отправлял их электронной почтой, штудировал, оставаясь увлечённым инженером и менеджером, специальную литературу. Однако из поместья не выезжал и никого из своих сотрудников к себе не вызывал. Он уже почти что не боялся, что могут обнаружить Марию, а потом отнять её у него. Был уверен: не получится! Пусть только попробуют! Другое довлело над его душой и разумом: в нём устоялось и упрочилось убеждение, что любое его и Марии общение с тем миром – на пагубу обоим, к расстройству её и его души, жизни всей, а то и к слому судьбы самой. «Она и я, я и она – уже целый наш мир. Зачем же нам здесь лишние люди?» Раз в неделю к воротам подкатывал фургон с продуктами, но машина не заезжала во двор. Шофёр, по первоначальному уговору, ставил на лавку три-четыре наполненные корзины, коротко сигналил и уезжал, не повстречавшись с хозяевами. «Да, да, на земле возможен рай, а я когда-то не верил!»
57
Чаще по выходным, чем в будни, к дому ещё подъезжали автомобили, в которых был разный люд, желавший отдохнуть, повеселиться.
– Припёрлись на расслабуху, – по-стариковски ворчал Лев перед Марией; она не возражала, но отчего-то строжела лицом и напрягалась вся.
После назойливых сигналов Лев неспешно и сумрачно подходил к массивной чёрной решётке ворот, однако не открывал ни самих ворот, ни калитки. В застрёху сжато, но вежливо отказывал людям. Кто в молчаливом недоумении отбывал восвояси, а кто и – огрызаясь и даже ругаясь и грозясь. От недели к недели, однако, народу подъезжало всё меньше и меньше. А в августе за весь месяц и совсем уже никто не объявился: молва утвердила в людях мнение, что новые хозяева этой великолепной базы отдыха – какие-то странные, если не сказать, что, нельзя исключать, и вовсе ненормальные. Могут ведь загребать хорошие деньги, особо-то и не упираясь в работе, – судачили и недоумевали люди.
– Почему ты, Лёвушка, никого к нам не впускаешь? – как-то раз спросила Мария.
Лев расслышал, но не откликнулся. Они сидели перед домом на громадном скалистом камне. Этот камень в тёплые поры был для прежних хозяев и их посетителей скамейкой, ложем, диваном и даже одновременно столом; возле него всегда кучковались люди, устраивали посиделки, выставляя яства и выпивку. Льву с Марией он тоже полюбился – такой солидно полнотелый, глянцевито обтёсанный непогодами и веками; на улице прохладно – он приятельски тепловат, а жарко – он услужливо накрадывается с холодком. Мария однажды сказала о нём: «Какой миленький тюлень. Смотри: вон глазки, вон ротик, а вот ласта. Но он, бедненький, весь окаменел. Умер. А может, оживёт, как думаешь, когда зарядят дожди, потом сползёт в речку и уплывёт в Байкал?» «Может быть, может быть. Но я не хочу, чтобы он уплывал отсюда». «Надеюсь, на цепь не догадаешься посадить его?» «Что велит моя принцесса-королевна, то и будет!»
Вот так бы и сидеть вечность, смотреть на небо, слушать тишину и её сердце, – всё молчал, не откликался Лев, жмурясь на бирюзово горящие просторы, на созрелую зелень тайги этого прекрасного августовского дня. Пусть длится покой в сердце и кругом. Но, может быть, он, Лев, уже настолько старый и ветхий, что не способен угнаться за ней? Всюду жужжит, стрекочет, даже заливается всяческая затаённая и явная жизнь. Ягоды спелы и налиты, травы и листья хотя и жестки, но богаты окрасом, цветов многообразность и праздник. Веет по распадку духовитый влажно-жаркий ветер, касается лица, будто кто лебяжьим пёрышком проводит. Что хотите думайте, а – рай, истинный рай! – светится и услаждается душа Льва.
– Пусть люди отдыхают и веселятся, – прервала молчание и негу Мария. – Или боишься, что заметят меня? Успокойся: я буду прятаться, пока они здесь. Затаюсь, отсижу тихонечко, как мышка в норке, – засмеялась она, но насторожённо, в полдыхания.
Снова Лев не отозвался, как привычно отвечал на всевозможное слово и движение Марии своей. Слышит – она засопела: знает – закипает. И в нём отзывом вздрогнулось, сорвалось – выговорил неожиданно строго, даже вычеканивая, точно бы отповедь, слова:
– Им нужны веселье и забавы, а нам с тобой нужна жизнь. Наша жизнь, пойми!
– Жизнь без веселья? – воинственно сощурилась Мария
– Разве тебе не весело со мной?
Она не сразу ответила, прикусывала губу; а ответилось с нежданной, некрасивой хрипотцой в самой глубине горла:
– Почему же? Ве-е-е-село!
Сказала-проголосила и досадливо поёжилась, нахохлилась.
– Вот и продолжим, моя принцесса, веселиться! – И, по своему обыкновению, он подхватил её на руки и стал кружить, подкидывать, целовать. Лицо же его оставалось суховатым, подтянутым, будто от чрезмерных натуг.
Она не вывёртывалась, как обычно, не жалила, но стала молчалива, безрадостна, затаённо покорна. Лишь настойчиво выхватывала взглядом его лицо, пытливо заглядывала в глаза: что-то важное для себя силилась довызнать, допонять. Он сам опустил её на землю, открыто и пристально посмотрел в её лицо, без слов говоря: «Ты хотела что-то разглядеть в моих глазах? Что ж, смотри!» И она смотрела, даже всматривалась. И впервые обнаружила в его глазах, показалось ей, пыльную, к тому же вроде как залежалую присыпь. Теперь его глаза не могут видеть полноценно, ясно то, на что направлены? – быть может, подумала или почувствовала Мария. Такие глаза она однажды обнаружила у старого больного соседского кота; кот был вечно сонным, лежал днями и ночами под креслом в сумраке на лоснящейся подстилке, а встав – колыхался, плёлся с великой неохотой к миске или к коробу с песком.
Мария прижалась ко Льву – вспышкой, толчком получилось. Успела ли подумать, зачем так поступила, сознавала ли, что делает? И – впервые – прижалась крепко, цепко, как некогда в детстве, в минуты внезапного слепого страха, она притискивалась к матери или отцу. Те детские её страхи и боязни были отчасти понятны ей: услышала или увидела ли страшную сказку, столкнулась ли на улице с рычащей собакой, – да мало ли что ещё может испугать, устрашить ребёнка. А что сейчас напугало её, насторожило, всплеснув и растворив широко чувства, – не поняла. Смутилась, отвела книзу глаза, однако спросила прямо:
– Ты боишься людей?
Лев тоже отчего-то перед ней потупился.
– Нет. Я боюсь самого себя.
– Ты – лев, и можешь укусить самого себя?
– Смеёшься опять? Молодец.
– А ты хочешь, чтобы я заплакала?
И снова, снова не ответил он, своим тяжёлым молчанием оборвал, прискомкал разговор. Завалился животом, во всю длину тела растянувшись, на камень, закрыл глаза, молчал – казалось, показывал: вот что важнее – поваляться на солнышке, понежиться. Она посидела минуту-другую возле него, покусывая губу, угрюмясь, шумно выдыхая носом. Сорвавшись, убежала в дом. Бродила, уже до боли прикусывая губы, по пустынным комнатам. Легонько, но сжимая её в ладонях, отодвигала штору и зачем-то подглядывала за Львом. Он лежал, не шевелясь и будто не дыша, и в какую-то минуту ей привиделось, что он, в этой своей рабочей тёмной серой одежде, слился с камнем, возможно, окаменел и сам. Камень-тюлень стал выглядеть горбатым, судорожно изогнувшимся. И опять на Марию наскочила, как из-за угла, безотчётная глухая боязнь. Сбежала по ступенькам крыльца к нему, приникла щекой к его спине: быть может, проверяла, бьётся ли его сердце.
– Прости меня, мой ласковый зверь, – шепнула.
– Тебя тянет к людям, подальше от меня, потому что ты ещё не полюбила, по-настоящему не полюбила, – не повернулся он к ней.
– Меня тянет к людям, потому что я тоже человек.
– Так давай немедленно, вот прямо сейчас, уедем в город, я отдам тебя матери, и мы все продолжим жить по-старому, – отчётливо и холодно проговорил он.
– Нет! – вдруг закричала она. – Нет!
Заплакала горько, безутешно. Оттолкнулась обеими руками от спины Льва и прижалась щекой к камню. Лев рывком встал. Повалился к её ногам. Шептал, падая голосом до придушенного сипа:
– Прости, прости, моя прекрасная, моя принцесса. Я старый и глупый…
Она, вздёргиваясь сморщенным жалким личиком, нещадно прервала его:
– Ты не старый и не глупый, а ты – камень! Камень, булыжник! Вот такой же, как этот каменный увалень! Этот камень мне нравится, но он всего лишь только камень, хотя и похож на милого тюленя. И он не старый и не глупый, а просто, просто, повторяю, камень, дурацкий обломок вон той дурацкой скалы!..
Она оборвалась, зачем-то даже принагнула голову, испугавшись, что до такой степени жестоко обидела своего Льва. Посмотрела на него мокрыми угасающими глазами. Он весь поник. Не смотрел на неё, а взглядом – в землю, в камни.
– Да, я камень, никчемный осколок никчемной скалы, – сокрушённо покачал он головой. – Но я, Маша, когда-то был живым душой. Теперь окаменелый, чёрствый. Что ж!..
Замолчал. Сидел сгорбленно. Он знал, что она ещё не способна понять, отчего ему неуютно с людьми, отчего ему хочется быть только с ней, с любимой, с единственной. Он знал, что нужны долгие и разные – счастливые и не совсем, наверное, счастливые – годы жизни, чтобы она почувствовала его, как надо, стала, быть может, его соратницей по неприятию, но и любви, большой любви, этой жизни.
Мария, утешая, погладила его по голове, но погладила до того осторожно, будто касалась к горячему или колкому. Казалось, что она жалела Льва как малого ребёнка, и ему подумалось, что она старше его, что она уже знает больше и глубже о жизни, а он, если и знал что-нибудь такое, то забыл или растерял в противоборстве с самим собой, с людьми и с судьбой.

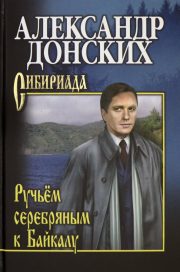
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!