Она очнулась в густой серой темноте под утро. Ей стало боязно и одиноко. Первая мысль – «Мама, мамочка!», однако вслух проголосила:
– Ле-е-ев, ты где-е-е?
Прислушалась – ни звука. Побрела по сумеречным комнатам, натыкалась на мебель и углы, открывала какие-то двери на обоих этажах, не могла вспомнить, была ли в этом помещении. Заплакала, отчаявшись найти Льва, но искать продолжала. Обнаружила его свернувшимся калачиком, в верхней одежде, на неразостланной кровати. Постояла возле него. В сердце хотя и затихал страх, но оно, казалось ей, подрагивало, покачивалось. Она впервые увидела Льва спящим, расслабленным совершенно, с закрытыми глазами. Зачем-то всматривалась в его припыленное сумерками лицо, минутами склоняясь, а то и пригибаясь всем туловищем к нему. Что-то, несомненно, хотела хорошенько разглядеть, понять глубже. Он лежал перед ней скрюченный, как обычно сворачиваются и люди, и животные, укрываясь от холода; однако в комнате было очень тепло, скорее, жарко даже. Зачем же он сжался? Ему неуютно? – призадумалась Мария, склонившись уже к самому его лицу. Оно розоватое, как у ребёнка, но паутинистое морщинками на тронутой годами беспомощно опустившейся щеке, с поддрябшей кожицей у глаз. Его губы доверчиво приоткрыты, на лоб влажно налипли волосы, в них серебром светятся сединки. «Вот тебе и серебро уже имеется… для ручья твоего», – не удержалась она съязвить. Но ей отчего-то стало жалко Льва, захотелось пожалеть его, погладить, сказать слово утешения и поддержки. Она почувствовала – в душе её тонко и щемяще зазвучало, запело, почти что заголосило. И она хотела ниже склониться к нему и что-то такое неясное для себя сделать – погладить его, что ли. Однако решительно отстранилась, зачем-то помотала головой, сжала губы накрепко. Ещё постояв в рассеянности мыслей и чувств, прилегла на самый краешек кровати, стараясь не скрипнуть, не зашуршать, и дышала вполвздоха. Но Лев очнулся. Полежал не шевелясь, не выдавая себя, и радуясь, и тревожась одновременно. Подумал, что она уснула – легонько повернулся к ней, медленно приподнялся на локоть.
Она тотчас повернула к нему лицо и посмотрела в глаза его прямо и, подумал он, странно. Странность её взора для Льва была в том, что он не мог уловить ясно ни одного чувства в её глазах – ни страха или восторга, ни ненависти или ласки, ни дерзости или покорности. Ничего говорящего, определённого не было для него, но её глаза снова представали перед ним таинственным многоцветьем, многовыраженностью, радугой чувств, настроений, мыслей. В её глазах надо тщательно и, возможно, долго, долго, а со временем ещё тщательнее, разбираться, – не способен был произнести даже в себе, но явственно почувствовал Лев.
Он, обворожённый, очарованный, покорный, кроткий, неотрывно, не смигивая смотрел в глаза своей любви. И хотел, чтобы мгновения эти, мгновения тишины мира и души его и её, длились, длились. И они, как покорные, длились, длились.
Начинавшееся за окнами утро было бледным, тусклым, нестойким, солнцу ещё несколько часов пробиваться сквозь леса и туманы. День задался сумрачным. Потом, однако, сорвавшись с Саянских гор, подул весёлый, южный, влажный, напитавшийся духа талых снегов тайги и вершин, ветер, оживил и расшевелил дремотное небо, дерзко и развесело расталкивая облака и дымку. И солнце к полудню обильно забрызгало своими живительными, радостными лучами землю, блистая всей своей красой и мощью.
56
Своим извечным чредом подошёл май, необыкновенно тёплый, духовитый, дождистый. Ещё в десятых числах апреля повсеместно обесснежело, и земля стала убыстрённо, с жадностью молодости вбирать в себя ливни солнца. В апреле же полили и настоящие дожди. Мало, что дожди редки и исключительны весной в этих глубинных континентальных сибирских краях, так они были чуть не парными, точно летом, в июле самом. Пышными, подобно спустившимися с небес облаками тотчас и обширно зацвели по холмам и изложинам багуловые заросли, всюду вспыхивали оранжевыми ласковыми огоньками жарки, разбредались по солнцепёкам голубиные стайки подснежников. Только подует мозглый северный ветер – откуда-то выскочат прогретые сухие вихри, сомнут стынь, – снова водворится влажная, пахучая, весёлая погожесть.
Лев нашёптывал Марии:
– Ты такая вся у меня молоденькая и шаловливая, – вот и местная природа под тебя, чую, подстраивается. Видно, приглянулась ты ей.
– Нет, – посмеивалась Мария, – под тебя подстраивается: ты же лев, а львы живут в жарком климате. Ей жалко заморозить тебя.
– Я же не голый хожу, как звери, – посмеивался и Лев.
Раньше срока стряхнув с себя лёд, засветился и заволновался молодцеватым ультрамарином Байкал. Мария любила вглядываться в озеро со второго этажа.
– Смотри: бьётся сердечко нашей земли, – говорила она Льву.
– Нашей, сказала? Умница ты моя, прелесть! А рядом-то со мной трепыхается ещё одно сердечко, – приопускаясь на колени, приникал он ухом к её груди и слушал, вслушивался, не желая оторваться, а она тихонечко посмеивалась и потрёпывала, ворошила его волосы.
Жизнь в поместье – неторопливая, но незастойная, временами задиристая, шумная, хотя и запертая, размеренная неуклонной волею Льва исключительно и единственно для двоих. С утра после пробежки и завтрака он незыблемо занимался с Марией уроками, бывал минутами строг, привередлив, наступателен, и оба они в эти часы, возможно, забывали, кто и что они отныне друг для друга. Она временами чуток, и не чуток тоже, робела, когда он спрашивал заданное им, и в священные для обоих часы уроков не позволяла себе прекословить, злоязычить, хотя по привычке тянуло. Она училась хорошо, прилежно, и неизменно старалась ему выказать, что очень старается, что хочет стать образованной, а «не какой-нибудь там миленькой дурочкой-недоучкой», – она так и сказала ему как-то раз. Лев чувствовал, что Марию подвигает в учёбе не только самолюбие, но и её тайное желание во что бы то ни стало тянуться за ним, не отставать ни на шаг от него, походить на него, такого притягательно умного, пытливого, всесторонне образованного, никогда не оставляющего книгу. А с матерью, с удовлетворением и не без горделивости вспоминалось Льву, она не очень-то была охотлива до учёбы.
Только отложат в сторону учебники и тетрадки – в мгновение воскрешается между ними прежний желанный дух жизни, и снова они друг перед другом равны, лишь только Мария мелкими прихотями и женскими, как ей представлялось, хитростями время от времени добивалась некоторого первенства да от случая к случаю укалывала Льва. Однако эта ухватка, с отрадой примечал Лев, слабела в ней, затушёвывалась день ото дня, от месяца к месяцу. «Полюбила?» – всё не доверял всецело своему счастью Лев.
По хозяйству старались вместе, почти что никогда не сговариваясь, что и как делать, не дробя хлопоты и обязанности. Приготовить ли покушать, сервировать ли стол, убрать ли с него, помыть ли посуду, прибраться ли в доме или во дворе, постираться, наконец, – многое что сообща, согласно, уступчиво, но неизменно с шуточками и прибауточками. Больше забот и хлопот Лев исподволь тем не менее перетягивал на себя, другой раз твёрдо перехватывал работу, за которую норовила приняться Мария.
– Смотри, не переломись: худущая, как щепка, а взваливаешь на себя, как мужик, – подтрунивал он.
А она с театральной приподнятостью, указывая пальцем на себя, порой прочитывала ему стих из Некрасова:
…В игре её конный не словит,
В беде – не сробеет – спасёт:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!..
– А льва в клетку сможешь загнать?
– Если сахар окажется под рукой.
– Без кнута, одним лишь сахаром?
– Ну-у-у, не только сахаром.
– А чем же ещё?
Она с лукавинкой на губах улыбалась, с таинственной игривостью отмалчивалась.
Ссор, перебранок, придирок, если не смеха и «прикола» ради, вообще не случалось. «Идиллия, рай? – размышлял Лев. Но тут же вспыхивало в голове и сердце: – Смотри, не сорвись с небес. Да прямо в яму не угоди. А она, кто знает, может ведь оказаться ещё глубже, чем та, твоя, собственными руками вырытая». Однако он уже давно не ощущал раздирающего, воинственного разлада в себе, желания едкого несогласия с самим собой. «А может, такая наша с ней нынешняя жизнь всё же и есть сам рай? Может, мы как-то незаметно оба умерли и очутились вместе у Христа, как говорят, за пазухой?» Подумает в таком направлении – усмехнётся. Мария спросит, что он? А он молчком подхватит её на руки и носит, бывало, час-другой, кружит, подкидывает высоко.
– Я тебе что, кукла? – наконец, притворится она обиженной, раздосадованной, что он столь несерьёзен с ней, решительно сползёт, выворачиваясь змейкой, с его неуступчивых сильных рук.
– Ты не кукла, ты – мой человек, а я – твой. Навсегда. Ты была ещё пацанкой, а я уже почувствовал тогда, что ты можешь стать той самой.
– Какой ещё такой той самой?
– Единственной. Моей.
– Но у тебя же были женщины, – капризно отворачивалась она, и Льву было непонятно, то ли по-настоящему дуется, то ли так, для куража. – И сколько же, отвечай, было тех единственных да неповторимых? – смеющимся ядом накрапывали её слова.
– Говоришь, были женщины?
Однако замолкал, не рассказывал: не мог себе позволить дурно отзываться о человеке, о женщине, тем более заглазно. Та, другая, жизнь, думал, грустя и волнуясь, тоже была его жизнью, тоже была его долей, его радостями и печалями. И те женщины разве виноваты, что оказались не его женщинами, не его судьбой, не его любовью? Забыть, – наверное, так лучше было бы. Но забудешь ли?
Мария же другой раз допытывается, нарочно сердит, а то и злит: что за женщины и как он их любил?

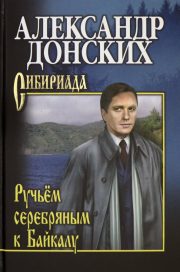
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!