И ему представлялось, что Мария непременно должна была бы выкликнуть что-нибудь этакое жизнерадостное, оптимистичное – «клёво!» или «супер!». Однако, чуткий, прозорливый, влюблённый, он тотчас понял, что ошибается, и ошибается жестоко, что ощущения его и слова его – поддельны, глупы даже. Встревожился: его Мария стоит-сжимается потерянно, она грустна, она тягостно и затаённо молчит. С укоризной к себе осознаёт Лев такое очевидное, но секунду-другую назад беспечно отвергаемое его душой, что Мария – ещё далеко, далеко не взрослый человек, что она воистину ещё маленькая, беспомощно хрупкая, уязвимая до последней жилки, да что там – просто девчонка ещё. Очевидно, что ей боязно, неуютно, одиноко. Он приволок её к этому помпезному, вычурному, к тому же чужому дому с дурацким петухом наверху и в этом доме, главное, нет её матери, нет ни единой родной души, нет её вещей, нет как нет поблизости её закадычных друзей и одноклассников. Лев же размечтался, что она возрадуется, почувствует себя осчастливленной, осчастливленной им, этаким новоявленным в её жизни дядей благодетелем, и как-нибудь выразит ему свою признательность, свои восторги и всё такое в этом роде. «Молодец: сходу разобралась – ненастоящее перед ней счастье».
– Ну, что, Мария, как тебе строение? – невольно упавшим голосом спросил он, отчего-то не назвав дом домом. – Нравится хотя бы немножко?
– Ничего, нравится, – машинально и бесцветно отозвалась она.
– Тебе тоскливо?
– Да-а, как-то, знаешь ли, не по себе стало. Пока ехали – ничего было, а сейчас почему-то прижало душу, как камнем.
Помолчали, стоя перед шестью зоркими сумрачными глазами-окнами. Мария спросила жалобно, на перерыве голоска:
– Мы здесь будем жить только вдвоём?
– Немножко надо бы, Мария, вытерпеть. Потом вернёмся к людям, к твоей матери, к моей сестре с племянником и начнём жить открыто. Как все. По-человечески. У нас с тобой там прекрасный дом, у нас с тобой Чинновидово. Выше нос, принцесса!
Но сам понимает и страшится: как же ему надо постараться, чтобы Мария была счастлива и довольна рядом с ним, чтобы что-то истинное, непридуманное состоялось у того и у другого в этом пока что чужом и чуждом для обоих доме. Для него с горечью и обидой очевидно – он для неё всё ещё, наверняка, никто, просто какой-то чужой, к тому же странный дядька, вероломно выкравший её, продержавший в яме, а теперь затащивший бог весть куда и бог весть зачем. Стоит-жмётся она около него, такого высокого, могучего, зрелого, в солидной дорогой одежде по сегодняшней холодной погоде, а она – этакая пичуга глупенькая, этакий подранок жалкий, да к тому же нелепо радужная в своей моднячей, несообразно зауженной, коротенькой курточке, в шапочке-блинчике с ярко-розовым воланом, в тоненьких колготках, в кроссовках, а не в утеплённых сапожках. Неухоженная, запущенная, – осознаёт и злится на себя Лев, стесняя губы. Не мог проследить, чтобы она оделась по погоде, только, выходит, о себе, любимом, и думает!
И его сердце внезапно, но мимолётно прожгло страхом: сможет ли он со временем всё же, всё же стать кем-то и чем-то для этого желторотого, зыбкого существа? Полюбит ли она его? И не напрасно ли многое из того, что он уже совершил и совершает? Может, взять да и отступить ему прямо сейчас, вернуть её к матери, повиниться перед людьми и жить так, как принято вокруг?
Но разве так его жизнь была там счастливой? Разве то, что он сейчас совершает, – не во имя любви, не для счастья и развития Марии? Но если всё же вернуться, то, несомненно, – неизбежно потонуть обоим в мути той, не любимой им и смертельно опасной для его Марии, жизни. И следом – навеки, навеки потерять Марию, которую обязательно уведут беспощадные обстоятельства жизни, стихийные круговороты людские, интересы противоестественные, царящие вокруг. Извратят, опоганят её душу, – и он лишится любви и надежды. Разве не так?
Разве не так?
Печёт, жжёт в груди Льва, помрачается и сдвигается что-то в голове. «Ещё секунда – и сломаюсь. Э-э, нет уж, други мои любезные! Довольно! Жить, так жить! А если помирать, так помирать с музыкой!»
– Пойдём в дом, – тихо, потому что сдавливало в груди, предложил он; и не вопросом прозвучало, и не утверждением, а походило, что мольбой, – мольбой, быть может, о помощи, о снисхождении. С трудом сглотнул пересохшим горлом.
Мария осторожно и медленно приподняла лицо, пристально, но застенчиво посмотрела в опущенные к ней глаза Льва. Улыбнулась, очевидно желая подбодрить его. Однако улыбка вышла слабой и вкось, некрасивой, с досадой поняла юная Мария. К тому же, как только она попала из машины на свежий холодный воздух, стало простудно и влажно напирать в носу, платка же не оказалось в кармане, и пришлось, по-детски, шморгнуть носом, раз, другой, правда, тихонечко. Но ей ясно, что Лев не мог не расслышать, не понять, что к чему, – смутилась, отвернулась: девчонкой, дурой выглядит! И – ещё напасть: чихнуть потянуло. Чихнула. Ещё раз; ещё, но сдавливаясь. Из носа точно бы хлынули потоки, потекло по губе. Какой позор, куда бы спрятаться, провалиться бы сквозь землю!
– А-а-а, вот ещё и простыла ко всему прочему! – вроде как обрадовался Лев. Можно выказать свою заботу, и этими необязательными словами, возможно, спутать свою нестойкую душу, стряхнуть с неё уныние и сомнение. – На платок! Почуяла, что здесь, в диком таёжье, холоднее, чем в городе или у нас в Чинновидове?
И ещё что-то говорил, но скороговоркой, путанно и, понимал, навряд ли нужное в эти необыкновенные для обоих минуты жизни.
И вправду, прохладно; да просто-напросто холодно, морозно. Хотя и солнце уже довольно высоко, и небо ярко синевой и распахнуто роскошно, однако леденит здешний сибирский, хотя и апрельский, воздух, валами подкатывается замшелая стынь из великой, немеряной тайги, из глубоких мозглых распадков, из снеговых саянских предгорий. Под деревьями ещё покоятся сугробы, по ложбинам – наросты мутных, грязноватых наледей. Густой, мохнатый иней старит сединой землю и деревья. Лес преимущественно хотя и вечнозелёный, однако настолько сбиты, прижаты друг к другу ветви, что создают собою высокую, неодолимую стену, и она к тому же удручающего непроницаемого окраса: что-то такое каменисто-серо-ядовито-зелёное. Девственно дикое окружение, в котором чуется угроза и затаённость из-за каждого куста и бугра. И от секунды к секунде углубляется и уже жмёт на душу, сковывая её, эта мёртвая, пещерная тишина, которая, мерещилось, наползает на них и сверху, и снизу, изо всех углов леса и усадьбы. Уже и Лев в своей-то плотной тёплой одежде ощутил озноб. Пронзительно неприютно обоим. Как с обрыва вдруг сорвались и – в яму угодили, невольно и до сжима в груди подумалось Льву. Молчат, напряжены, кажется, ждут какого-нибудь живого обнадёживающего звука, какого-нибудь всшороха, говорящего, что не одни они здесь, не одиноки. Но отчётливо слышат оба лишь дыхание друг друга.
– Живы будем – не помрём, – сказал Лев тихонько, бдительно вслушиваясь в дыхание, скорее, в сопение, своей Марии в одежде на рыбьем меху.
– Что, что? – шепнула Мария, но не сразу, тоже прислушиваясь к его дыханию, ровно-тяжёлому, мужскому, а также к важному поскрипу его кожаной куртки, можно было подумать, опасаясь, что и эти живые звучания можно потерять в этом затаённом, явно недружественном обиталище.
– Вот здесь, говорю, и начнём с тобой новую жизнь.
Поёжилась, ещё раз утёрла платком, всем корпусом отворачиваясь, нос и губы. Не удержалась, чтобы не съязвить в своём духе:
– Местечко, однако ж, ты выбрал клёвое. Б-р-р! Долгонько ли выискивал? Начнёшь тут, пожалуй, новую жизнь. Не загнуться бы совсем, не протянуть бы ноги.
– Какая ты, Маша, погляжу, ворчунья. Бабка! Да ничего, Мариюшка моя, обживёмся как-нибудь мало-помалу, не дрейфь. Станет и это место-местечко весёлым и приютным, как у нас в Чинновидове. Веришь?
– Угу.
– Когда обустроимся, будут тебе сразу и угу и угугу!
53
А ведь ещё какие-то сутки назад, хорошо знал Лев, на этой схороненной в лесах елани была другая жизнь, совсем другая – многолюдного, шумного, нередко суматошливого пошиба. И жизнь та была распахнута для любого приезжающего, при всём при том оставаясь долгие годы размеренной, устоенной, деловитой. В усадьбе проживала семья, муж и жена Сколские, в прошлом именитые учёные-ботаники, оба уже преклонных лет. Супруги были завзятыми охранителями природы и неутомимыми путешественниками, поездили по свету, а теперь, лет десять назад, осели здесь, арендовав, с последующим выкупом, захламлённый участок с подразвалившимся домом. Отстроились наново, развернулись, стали неплохо зарабатывать. Полюбили горячо эту строгую, но благодатную сторону. Они принимали всевозможных визитёров, туристов, просто праздный люд, всех тех, кто желал отдохнуть несколько дней или больше. Народ с проводниками и носильщиками бродил по таёжным тропам, которые выводили на всевозможные диковинные достопримечательности, всходил на Саянские вершины, сиживал с удочкой у речки, охотился, собирал грибы и ягоды, а то просто валялся в гамаке, хлопотал перед барбикю, в излишке принимая спиртное, объедаясь здешней дичью. Вообще многое что предлагали эти увлечённые, обходительные владельцы усадьбы, от примитивного времяпрепровождения и вплоть до научных исследований, природоохранительных поступков, – кому что нравилось, к чему были горазды и охочи.
Это была внешне счастливая, здоровая жизнь ещё свежих стариков, они и умереть предполагали на этой земле. Однако у них была одна, но великая и, быть может, уже непоправимая горесть – у них были, как сами говорили между собой супруги Сколские, «бесприютные, непутёвые, несчастные» дети, двое уже немолодых сыновей. Один, Пётр, старший, вышел беззаботным, но эгоистичным бездельником к своим сорока трём годам; он, брошенный, в конце концов, женой, без профессии, теперь вёл тёмный образ жизни игрока и дельца. Другой сын, Сергей, младше на год, сделался озлобленным неудачником; он отчаянно пытался обогатиться в коммерции, однако всё глубже увязал в невезухах, виня весь свет, родителей, брата, который вмешивался с советами, но только не себя. Столь «непутёвыми» сыновья получились потому, что, теперь осознали свою – определили они – «ошибку» супруги Сколские, воспитывались по чужим семьям и углам – у дедушек-бабушек, у тётек-дядек, часто порознь, изредка встречаясь друг с другом. Отец же и мать, захваченные всецело наукой, карьерой, охранением растений и животных, от случая к случаю, возвращаясь из бессчётных, но желанных поездок, второпях виделись с сыновьями, одаряли их подношениями, баловали всячески, однако снова и снова уезжали, и надолго, по призыву своей науки, по служению ей и обществу.

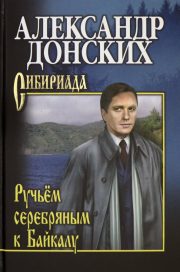
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!