Мария неожиданно попросила Льва, и в перепадах её голоса он понял, что она не уверена или даже не знает, правильно ли поступает, то ли говорит:
– Расскажи мне о себе.
Она от кого-то из подружек слышала, что он и она рассказывают друг другу о своей жизни, о тех её годах, когда они не знали друг друга, не были влюблёнными. Он тихо радовался: похоже, что какое-то хотя и расплывчатое ещё, но набирающее яркости и сил чувство уже вело её. Стал рассказывать, а она чутко слушала, даже вслушивалась, словно бы взвешивала оценочно каждое его слово, и всем своим видом – умным прищуром глаз, немного приподнятым подбородком, покачиванием головы – зачем-то старалась показать ему, что ей очень интересно. Но, слушая, она, потрясённая, порой до ужаса и отчаяния, событиями нынешнего дня, а теперь успокоенная, расслабленная, незаметно задремала, склонившись головой к гриве львёнка, лежавшего на её приподнятых коленях. Лев же, взволнованный, увлечённый, какое-то время не замечал и продолжал свой неторопливый, обстоятельный, скорее, старательный рассказ. Потом приподнял её тонко-костистое тельце, бережно уложил голову на подушку, убрал с глаз потные волоски; на кровать не понёс, боясь разбудить. Накрыл пледом, заботливо подоткнул его, погасил люстру, но зажёг ночник. Коснулся губами, пересохшими, горячими настолько, что сам почувствовал, её маковки и потихоньку выбрался наружу. Медленно закрывая люк, до последнего смотрел в щёлку на неё. Во дворе опустился на колени и поднял лицо к сияющему звёздами, но глубокому чёрному, точно бы пропасть, небу. «Нет-нет! Какая пошлость, театральщина, – тут же подумал он и поднялся. Тщательно отряхнулся. – Я не буду, Господи, замаливать своего греха, потому что любовь не может быть грехом. Ты же знаешь об этом, не так ли?»
49
Лев понимал, что снова, но теперь уже вместе с Марией, он угодил в яму – в яму своих страхов, в яму неверия в то, что жизнь сама выправит его судьбу, непременно смилостивится. Он убеждён, он раздосадован, он даже зол, – не выправила, не потрафила, не помогла, не смилостивилась и на волосок. Но неужели он не заслужил даже какого-нибудь мизерного счастья, простого человеческого счастья с Марией, которую полюбил? Почему девушка как-нибудь естественно, нормально не вошла, не влилась в его жизнь, в его судьбу? Почему нужно было до такой степени грубо, противоестественно поступить – коварно похитить её да к тому же спрятать в яму? Льва изводили сомнения: то ли он совершил, что нужно было? Утешало и несколько крепило и поддерживало лишь одно – нужно было немедля выцепить Марию из грязного напирающего со всех сторон потока этой пакостливой, немилосердной жизни, спасти девушку, и он выцепил, и он спас, действуя как на пожаре, как при стихийном бедствии. Однако – что же дальше? Как теперь жить-быть?
«Мы найдём с тобой прекрасное место для жизни»; «Я когда-нибудь построю для тебя дворец»; «Ты будешь в нём повелительницей. Королевой!» – помнил он о своих обещаниях и мечтах. Но первое, что надо, – надо во что бы то ни стало и как можно быстрее выбраться из ямы. Но – как? Но – куда? Жить открыто с Марией он не может, потому что не может позволить себе быть вероломным, подлым с Еленой, быть неблагодарным ей: каким бы человеком она ни была, как бы он ни относился к ней, но она – любит его. Любит. Надеется. Ждёт. Ему жалко её, она даже не частичка, а уже немалая часть его жизни, его судьбы. Так что же, что же предпринять? И предпринять необходимо срочно, безотлагательно, потому что Мария, его любовь, не должна страдать живя в яме, хотя и со всеми удобствами. Поселить девушку в чинновидовский дом? Нет-нет, нельзя, нельзя никак, потому что в нём безвыездно обитает сестра Агнесса со своим сыном. Елена непременно вызнает, может проговориться сестра, что-нибудь увидят и заподозрят соседи, – и последуют изматывающие скандалы, истерики, месть и всякие другие глупости. Но главный вопрос в другом, совсем, совсем в другом, вопрос этот с внезапно являющимися шипами, вопрос этот с цепляющимися за живое крючьями: сама Мария любит ли его? Любит ли, любит ли? Понимает ли она, молоденькая, неискушённая, что он предложил ей? Он минутами мучительно неуверен, он впадает в испепеляющие сердце сомнения, он теперь живёт в неотвязной тревоге смятения, в тряске нравственной. Самое простое и тотчас снимающее с него тяготу совести и ответственности – взять да и выпустить её на волю, вернуть матери. Но какова эта мать! Она хочет жить, к чему вольно и невольно подталкивает и дочь, подталкивает, как к яме, но уже к другой яме, из которой не выбраться вовек, потому что душа ещё такой нестойкой, наивной, доверчивой Марии, его Марии, погибнет, и что ему потом любить? Что, что любить? Нет, нет, никак нельзя выпускать к матери! Может быть, уехать с Марией? Далеко-далеко. Да, остаётся, по всей видимости, единственно верная, относительно безопасная дорожка их нынешней, уже общей жизни – уехать, скрыться, затаиться на время. Но – куда уехать?
Лев на второй день после похищения Марии спросил у Елены, где её дочь.
– Последнее время Машка с каким-то парнем якшалась, кажется, Сергеем зовут, – может, Лёвушка, она гостит у него? – спокойно, буднично, риторически спросила Елена и попыталась приласкаться ко Льву. – Устраивает, негодница, свою судьбу. Понимаю, она уже немаленькая. Знаешь, я в её возрасте была такой же решительной и отчаянной. Однажды поругалась с мамой и улизнула из дома к подружке, прожила у неё целую неделю.
Лев выставил перед Еленой локоть и отвернулся лицом.
– До чего ты груб… мой ласковый зверь, – всё равно улыбалась ему Елена.
Она разыскала Сергея, но парень ничего не знал о Марии. Встревоженная, пробежала по знакомым, по родственникам, звонила повсюду – дочери нигде не было. Всплакнула. Пошла в милицию, написала заявление. На третий день спросила у Льва:
– Слушай, наш ласковый зверь, а не в твоём ли уютненьком чинновидовском логовке она живёт-поживает?
– Ты что, ополоумела?
– Лёвушка, мне всегда кажется, что ты к ней подкрадываешься. Как кот к сметане на столе, – неожиданно засмеялась Елена, широко, возможно, прельстительно, раскрывая сочно накрашенные губы. – У тебя яростно блестят глазёнки, когда ты с ней разговариваешь. А готовите уроки – весь струночкой сидишь перед ней и явно угодничаешь. Скажи-ка, наш котик Лёвка, она тебе нравится? Или ты уже воспылал нешуточной страстью к ней? Ах, седенький ты наш Ромео, покраснел, зарумянился!
– Отвяжись.
– Да я же вижу, что нравится. На Новом годе ты её приревновал, вспылил и хотел увезти. Одну! Да тут – я. Помешала… вам, – ядовито, с уже сжатыми губами усмехнулась Елена. – Ну конечно, она хорошенькая, молоденькая, бойкая… а я… а я уже старуха. Списанная, говорят о таких, лошадь. – Елена всхлипнула, однако тут же спросила деловито и строго: – Так у тебя она? Признавайся, не юли!
– Не выдумывай. Мне надоела твоя болтовня.
– Ни у друга, ни у подруг, ни у родственников, ни у тебя, – где же она, негодница?
– Поищем. Найми в помощники частного детектива. Вот, возьми деньги.
Она с притворной неохотой приняла из его рук увесистый конверт, привскрыла, порицающе покачала головой:
– О-о, да тут сто-о-о-лько, щедрый ты наш папочка, что хватит нанять целый полк детективов.
– Вот и найми полк.
Она ядовито втыкалась в него глазами:
– Машка у тебя! И ты, Лёвушка, цинично откупаешься от меня. Смотри, смотри прямо в глаза – не отворачивайся!
– Пошла ты к чертям! Не болтай вздора. Мне пора: дела.
– У тебя, у тебя она! И – пусть, и – бес с вами. – Помолчав с прикушенной губой, вдруг грузно и дерзко нависла руками на его плечи, утягивала его книзу, силясь, как бы гнула: – А со мной ты будешь жить? Будешь? Отвечай, шкодливый кот!
– Д-дура! – слегка, но жёстко оттолкнул он её.
– Заявлю на тебя в милицию за совращение Маши – забегаешь после! Сразу заголосишь: давай, Леночка, поженимся.
– Замолчи, наконец-то!
– Так не хочешь на мне жениться? – сказала она очень тихо, выдавленно, едва разжав зубы, и в её глазах отшлифованно, нацеленно взблеснуло.
– Нет, не хочу. До свидания.
– Что ж! Как знаешь, мой любвеобильный ласковый зверь. Топай. А я посижу пока, подумаю.
Через несколько дней Льва вызвали в милицию. Он предстал перед оперуполномоченным роскошно одетым важным, сановным господином, к тому же – с двумя долговязыми, бритыми охранниками, которые сначала вошли в кабинет, с тупой звероватостью и не здороваясь посмотрели на оперуполномоченного, а потом развалко вышли в коридор. Оперуполномоченный, потеющий, а теперь мгновенно взмокший толстяк, оторопело натужился. Скатывающимся на сипоту голосом начал опрашивать Льва, но путанно, уклончиво, мудрёно: видимо, до такой степени растерялся, что никак не мог смекнуть, какая же опасность может исходит лично для него от этого надменного и, похоже, всесильного толстосума с замашками пахана. Лев перебил его и спросил прямо:
– В чём, любезный, вы меня подозреваете?
– Да вот, Лев Павлович, письмо интересненькое получил. – Толстяк прощупывающе пристально и многозначно взглянул в глаза Льва: – К слову, Лев Павлович, начальству ещё не показывал.
Лев понял, что этот поросёнок выслуживается перед ним. Видать, учуял поживу и кормушку. Что ж, он получит свою порцию желудей. С ледяным безразличием прочитал, отпечатанное на принтере, без подписи: «Прощупайте как следует Льва Ремезова. Не у него ли в Чинновидове живёт пропавшая Маша Родимцева. Нагряньте неожиданно в его дом, переворошите всюду. Там она, увидите! Арестуйте его, отдайте под суд за совращение…»
Ясно: она вздумала погубить его.
– Сколько вам дать денег, чтобы вы хорошо искали? – Лев едва-едва шевелил неожиданно задеревеневшими губами. – Надеюсь, вы понимаете, что я говорю лишь о спонсорской помощи?

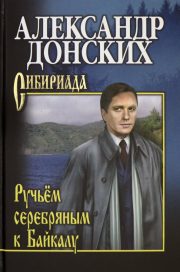
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!