Лев вывел её мимо джипа через тёмный, с запахом дизельного топлива гараж в обнесённый высоким дощатым забором двор, голый, но большой и плотно обсаженный деревьями и кустарниками. Было потёмочно, студёно, почти морозно, – вторая половина марта, известно, в Сибири ещё не совсем весна, хотя днём солнце уже пригревает, а влажнеющий и синевато чернеющий снег оседает. Мария глубоко вдохнула свежего, искристо покалывающего воздуха, удивляясь, что можно, оказывается, восторгаться такими пустяками. Даже расслышала – пощёлкивали смерзавшиеся лужи; под ногами похрустывало, деликатно мягко, с тонким призвоном. Ясно различались лишь только забор и деревья.
Оба увлечённо смотрели в небо, указывали друг другу на огненные звёздные прочерки и на разгоравшиеся знакомые созвездия.
Ничего не сказав Марии, Лев внезапно зачем-то скрылся в гараже. Она обернулась, не увидела его в потёмках и крадучись – или притворяясь перед самой собой, что крадётся, – подошла к калитке. Слегка – без надежды, что откроется, – толкнула её. И та податливо и услужливо распахнулась. Перехватило, но следом содрогнулось в груди. Увидела стремительные стрелы света проезжавшей невдалеке машины, освещённые окна двухэтажного особняка Льва. За чёрной вязью деревьев различила другие дома. Расслышала чью-то тающую речь и ленивый собачий брёх. Можно выскользнуть, выйти и – побежать, побежать, припустив что есть сил.
Но – не вышла и не побежала. Прикрыла калитку и отошла от неё подальше; ещё дальше, ещё. И даже зачем-то отвернулась от неё. Глубоко, по самые глаза, натянула шапочку с козырьком. Однако тут же поняла, что низко сидящая шапочка, – ну-у, совсем некрасиво, потому что, главное, не видно на лбу кудряшек. Поправила так, что лоб кокетливо заиграл завитками, а козырёк задорно задрался. «Хм, а не пора ли тебе, девонька, повзрослеть? Как-никак, уже в жёны позвали».
48
Сзади её крепко обнял за плечи Лев. Она не испугалась, не вздрогнула, не возмутилась, а повернула к нему лицо и с затаённой усладой ощутила, что от него как-то приятно пахнет табаком (не куревом, а той смятой сигаретой) и кожей его новой модной куртки. Ей понравилось, что он именно модно одет, со вкусом, без того равнодушия к одежде, которое она подмечала за другими мужчинами солидного возраста. Она разглядела в его глазах отражённые звёзды; а может, это были совсем и не звёзды, а так глаза его горели, и ей почудилось, что в лицо ей повеяло светом и теплом. Она невольно улыбнулась, не внешне, а в себе, скорее – в себя, для себя.
– Дядя Лёва, вы вот так прямо и любите меня… как женщину?
– Львом меня зовут, Мария. Да, как взрослую женщину и люблю. И буду любить… – Он хотел было снова сказать «до скончания моих дней» или как-то подобно, но не сказал – поморщился. Помолчал, несомненно, подыскивая нужное, верное слово. – Буду любить всегда. И хочу, чтобы ты меня полюбила.
Он низко, всем туловищем склонился к ней – она была ниже его чуть не на две головы – и в потёмках глубже всмотрелся в её глаза. И ей в мгновение стало жарко, и подумалось, что Лев и впрямь источал тепло и свет.
– Такая ты мне и нужна – прекрасным, чистым созданием.
Она снизу насторожённо и затаённо всматривалась в его лицо, сама не понимая хорошенько, что хочет увидеть, что хочет разглядеть в нём такое, чего не примечала раньше, при свете.
– Создание – оно, а я – она, но это так, к слову, – не преминула она по своему обыкновению поддеть. – Говоришь, чистая? А что, другие грязные?
– Другие – они другие, Мария. Я не хочу говорить о других, тем более кого бы то ни было осуждать. Каждый идёт своим путём.
– А у нас какой путь?
– Вместе. Вместе через всю жизнь.
И они надолго замолчали, смотрели в небо, казалось, пытаясь отгадать в нём какие-то намётки, какие-то очертания этого их совместного пути через всю жизнь.
Не вопросом и не утверждением прозвучало его тихое, в лёгкой улыбчивой насмешливости замечание:
– Не убежала. Молодец. Спасибо.
– А-а, ты нарочно оставлял меня одну!
– Ага.
– Подлец! – с притворной рассерженностью притопнула она каблуком, ломая звонкий лёд.
– У-у, как мы умеем браниться.
– Я не убежала, потому что мне не хочется в школу. Вся эта учёба – фу-у, такая гадость. Понятно, Ромео? А ты, наверное, подумал – из-за любви к тебе?
– Да, так и подумал.
– Не дождёшься, – отвернулась она от него, не осиливая расцветавшую улыбку, но и не желая выказывать её. – Холодно, озябла я.
– Конечно, озябнешь: вырядилась так, что, можно подумать, собралась на свидание – тоненькие чулочки, коротенькое платьице, курточка на рыбьем меху. Помнить, однако, надо: в Сибири живём. Что, не могла надеть чего-нибудь солиднее? Вещей много, есть из чего выбирать.
– Старый ворчун. Знаешь, там у тебя шмутьё такое немодное. – Она в сомнении подумала, но сказала-таки: – Дерьмовое, короче. Носи сам или раздай! А я тебе не лохиня.
– Что за словечки – «шмутьё», «дерьмовое», «лохиня»?
– Так все сейчас говорят. Ты что мне тут – нотации собрался читать, типа наших дубовых училок? Не на ту нарвался, папочка!
– Гх, папочку нашла! Да, собрался! И не хай мне учителей.
– Что ещё за «хай»? А-й, ну тебя! Замёрзла я, как собака. Веди домой… в яму свою, – отвернулась она от него и рывком натянула на глаза козырёк шапочки.
– Надо же, поцапались, точно бы две собаки. Не дуйся. Знаешь что, Мария? Я когда-нибудь построю для тебя дворец. Не веришь?
Она неохотно полуобернулась к нему.
– Дворец? Настоящий дворец? И я буду в нём принцессой?
– Ты будешь в нём повелительницей. Королевой!
– Королевой? Настоящей-принастоящей королевой?
– Самой что ни на есть настоящей моей королевой.
– Фи-и! – притворно-капризно сморщилась она. – Только твоей?
Он вдруг подхватил её на руки, она не отстранилась, но и не прижалась к нему: было очевидным, что не знала, как же ей, такой уже взрослой, вести себя. Когда-то давным-давно любила сидеть на руках у отца, а теперь ведь она такая большая. Но в тоже время ей было приятно и забавно находиться в сильных руках настоящего мужчины. Она слегка откинула голову назад. Он прокружил её несколько кругов, и ей представилось, что звёздное небо закружилось вместе с ней, и что оно потянуло её к себе, и что нечаянно разожми он руки – она улетит, кружась, восторгаясь и обмирая от страха.
– …да, да, только моей, – расслышала она, будто сказал он издалёка, быть может, уже откуда-нибудь снизу.
– Я не хочу быть только твоей королевой. Понял?
– Вредная, тщеславная девчонка, – поставил он её на ноги как бы в наказание. – Ты ещё не понимаешь, что такое счастье любви.
– А ты раньше… – Она запнулась и, очевидно, через силу уточнила: – Я хочу сказать, до меня, знал, что такое счастье любви?
– Я, Мария, ждал любовь. Годами ждал, в терпеливой надежде. Временами, правда, отчаивался, – и в себе злился и бунтовал: почему же я такой беспросветный горемыка? почему моё сердце молчит? почему в моей жизни не появляется моя единственная? Но теперь я не сомневаюсь, что только ты моя единственная.
– Единственная, – как кусочек из песни, протянула она.
Он её легонько прижал к себе.
– Маша, ты уже вся дрожишь! Не простыла бы. Быстрее, быстрее в тепло!
Они спустились по лестнице, показалось, в солнечно освещённую и ласково тёплую комнату; напились чаю с тортом. Мария была грустна и рассеянна, отчего-то не смотрела в глаза Льва. Потом он пересел на диван, а она, не сразу и в некотором отдалении, – на его краешек. Спросила, вытягивая из себя подрагивающий голосок:
– Что… теперь…это… со мной сделаешь?
Он в насмешливой, но чрезмерно морщинистой строгости ответил, прикуривая, однако тотчас спохватываясь и гася сигарету:
– Гх, «это»! Как ты иногда говоришь – «фу» и «фи»? Так и я в адрес этого твоего – сразу и без церемоний и фу и фи изрекаю. Пойми, Мария, Машенька: я душу твою полюбил и буду терпеливо ждать от тебя ответного чувства. Чтоб душа к душе было по жизни всей, а не это или какое-нибудь то. Как у людей заведено. Душа – вот что смертельно важно, вот за что, чую, я и жизнь бы положил, если бы выбор встал ребром и без запасного выхода. – Помолчал, сжимая губы. – Понимаешь? Понимаешь? – зачем-то дважды спросил.
– Ага.
– Вот тебе и «ага»! Если ты осознаешь и честно, напрямки скажешь мне, что не можешь и никогда не сможешь полюбить меня, я без промедления отпущу тебя с миром. И мне ничего другого от тебя не нужно будет. Ни этого, ни того. Понимаешь?
– Ага. Понимаю. Да, понимаю.
Помолчали в тягости, спасительно ища глазами угла, где бы приткнуться взглядом.
– А хочешь прямо сейчас уйти? Я – на верх мигом, заведу машину и доставлю тебя в целости и сохранности к матери. И – точка. И-и-и – порознь пойдёт каждый своей дорогой. Хочешь? А? Хочешь?
Она, побледневшая, ставшая какой-то притиснутой, жалкой, зачем-то призакрыв веки, замедленно-тяжело мотнула головой направо-налево, налево-направо; сморщилась горько, но, характерная, слёзы сдержала.
– Прости, Маша, прости! Я уже не разговариваю с тобой, а мучаю тебя без пощады. Душу твою надрываю. Прости великодушно.
– Разве ты не понимаешь: если там, наверху, я не сиганула от тебя, выходит, что понимаю, как мне нужно дальше жить. – Запнулась, поправилась шепоточком, в смущении великом, отчаянно покраснев: – Мне и тебе дальше жить.
Снова помолчали, но уже не испытывая тягости и неловкости в молчании. Быть может, так и нужно было сейчас – помолчать вместе, помолчать о чём-то, а не просто так или враждебно. А может, молчание им нужно было, чтобы прислушаться к дыханию другого, вернее рассслышать внутренние, тайные, сокровенные голоса друг у друга.

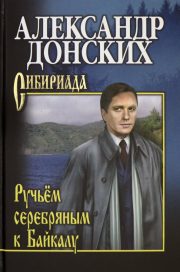
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!