Зубы твои – как стадо выстриженных овец…
И Мария попыталась вообразить стадо овец и зубы, олицетворяющие это стадо. Постучала своими зубами, растянув рот и заглядывая издали в зеркало. Не выдержала – засмеялась, но сдавленно, в нос.
О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями…
Она не сразу смекнула, что такое «чрево» и «ворох пшеницы, обставленный лилиями». Когда же поняла, то почувствовала, что уши и щёки её как будто чуть прижгло солнцем.
Два сосца твои – как два козлёнка, двойни серны.
– Два козлёнка? – снова посмотрела она на люстру с ожиданием. Но тут уже по-настоящему не сдержалась – беспечно, громко рассмеялась, подкинув кверху ноги так, что туфли описали в воздухе сальто-мортале и плюхнулись на стол.
Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный…
– Ибо крепка, как смерть, любовь, – шепнула Мария, дочитав «Песню песней» и бережно, в какой-то опасливой замедленности закрыв Библию, очевидно побаиваясь, что могут нечаянно согнуться и помяться её тонкие трепетные листы.
– Почему же как смерть? – поёжилась она, и к её сердцу опять прильнул, прижигая холодком, страх.
Нет, похоже, не пошутил дядя Лёва. Но как же он посмел с ней столь ужасно обойтись? Что он с ней сделает? Запер в яме. В яме! Как в могиле. Похоронил заживо. Боже, похоронил! За что, за что, ведь она и он такими были друзьями, беспрестанно друг над другом подшучивали, вместе делали уроки!
– Ма-а-амочка, мамулечка, где ты? – снова подняла она глаза на люстру.
Но всё та же густая тяжёлая тишина была её собеседницей.
Сидела сжавшись, скомкавшись, – можно подумать, что состарилась или серьёзно заболела. Потом, сморенная, медленно повалилась на бок, уронила голову на львёнка и уснула крепко-крепко в своём пышном белоснежном платье, в разбросанных кудряшках волос, с расплывшимся по лицу пёстрым макияжем, под сеянием молчаливой, но жизнелюбиво сверкавшей люстры.
47
Почувствовала чьи-то прикосновения: кто-то пёрышком, шаля, поводил? Очнулась и увидела над собой лестницу, свисавшую с потолка, идядю Лёву, сидевшего на краю дивана. Он, чуть улыбаясь поджатыми губами, напряжённо смотрел на неё и платочком легонько смахивал с её щёк и подбородка чёрно-синие наплывы косметики.
– Здравствуй, Мария, – хриплым, срывающимся на шепоток голосом произнёс Лев.
– Дядя Лёва? Вы? – зачем-то спросила Мария, уползая от него и в самом углу прижимаясь к спинке дивана.
– Не называй меня дядей. Обращайся ко мне на «ты» и зови просто Лев. Договорились?
Мария промолчала, натянутая и застывшая, сидела в своём углу. Оба смотрели друг на друга строго, изучающе, словно бы впервые в этой жизни встретились. Он опустился на корточки перед ней и снизу робко заглянул в её глаза.
– Не бойся меня, Мария.
– Вы будете меня насиловать?
– Нет. Я буду тебя, Мария, любить и заботиться о тебе до скончания моих дней.
– Любить? Как дочку?
Лев промолчал. Она увидела, как оранжево-влажно блеснуло на его ресницах, но он сразу склонил голову.
– Отпустите меня. Пожалуйста.
– Нет, – ответил он тихо и твёрдо. – «Ты», «ты».
– Но почему, почему не хотите… не хочешь!.. отпустить меня?
Он молчал. Поднялся с пола, взял с полки стопку книг, зачем-то взвесил их на ладони:
– Вот школьные учебники и пособия для ВУЗа, – продолжим учиться. Экзамены за курс школы ты сдашь, не присутствуя на самом экзамене, инкогнито, и следом поступишь на заочное отделение университета, – не беспокойся, я всё устрою: деньги в наши дни открывают, увы, но для нас с тобой к радости, любые двери. Ты во что бы то ни стало будешь образованной, просвещённой, высоких помыслов девушкой. Вспомни, как мы с тобой почти целый год каждый вечер занимались, выполняли домашние задания, бились над алгебраическими задачками. Будь умницей, – начнём? Начнём!
– Я хочу к маме. К маме!
Он снова опустился перед ней на корточки.
– Прости меня, Мария. Но я тебя не отпущу. Пройдут месяцы или, может быть, годы, и ты меня, я уверен, поймёшь и, возможно, простишь. Я верю – поймёшь и простишь, ведь у тебя такое большое и отзывчивое сердце. – Помолчал, прикусывая губу. – Поймёшь и простишь, поймёшь и простишь, – зачем-то повторил он, но уже заклинательно и мрачно, в такт слов отбивая рукой по дивану.
– Не пойму и не прощу! – смахнула она на пол львёнка.
– Поймёшь и простишь, – поднял он и отряхнул игрушку. Тяжело помолчал, упершись глазами в пол. – Машенька… Мария, ты должна крепко знать самое главное: я люблю тебя больше жизни. Понимаешь, люблю? Я не хочу и не допущу, чтобы ты была растерзана и запятнана какой-нибудь безобразностью этой жизни. Я тебя оберегу. Знай крепко: единственно ты мне нужна во всём мире.
Он неуверенно приподнял на неё глаза, и она уже ясно увидела в них слёзы. И неожиданно тоже заплакала, скорее зарыдала, разревелась безутешно, и её слёзы уже не были слезами страха и отчаяния: душа наполнялась жмущим, тоскливым, но, одновременно, каким-то нежным, жалостливым большим чувством. Ей захотелось погладить Льва по голове, что-то сказать ему успокаивающее, подбадривающее, словно бы более горько и беспросветно сейчас ему, чем ей. Но, перебивая в себе эти ласковые, сострадательные, но мало знакомые для неё чувства, она наступательно, громко, с подростковой дерзинкой спросила:
– Я что, буду жить в этой яме? Я, твоя любовь, буду гнить в этой дурацкой яме? Хорошенький кавалер у меня выискался!
– Маша, я пока не могу выпустить тебя на волю, на волю в тот мир, в котором я тебя могу потерять, но я непременно что-нибудь придумаю стоящее. Мы найдём с тобой прекрасное место для жизни. И будем счастливы, будем счастливы, вот увидишь. Мы так с тобой заживём, так заживём…
Но он оборвался, замолчал, явно не находя нужных, убедительных слов или ещё не совсем веря даже самому себе. Вынул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой, но загасил огонь, сигарету же зачем-то смял, раскрошил и стряхнул с ладони обратно в пачку. Мария, растирая кулаком по лицу свои разноцветные слёзы, смотрела на него с напускной строгостью. Быть может, она уже ясно осознала свою силу над ним, но ещё не умела найти способа, как воспользоваться ею правильно.
– Так как заживём? Почему молчишь?
– Очень, очень хорошо, Маша, заживём. В любви. Главное, чтобы в любви. По-человечески. Дружной семьёй.
И они враз, будто сговорившись, не таясь, прямо посмотрели друг другу в глаза. Она неожиданно, кажется, неожиданно даже для самой себя, улыбнулась ему, однако снова поспешила притвориться настороженной, строгой, рассерженной. Сморщилась и с нарочитой развязностью протянула:
– В любви-и-и-и? Семь-ё-о-о-ой? Ещё чего!
– Да, моя прекрасная Мария, в любви, в большой взаимной любви. И дружной, крепкой семьёй. – Неожиданно прищурился: – А ты, вижу, и вправду ещё совсем, совсем девчонка.
– Девчонка? Фи! – Она резко отвернулась и, задрав голову, спросила у люстры: – И я такого старого пня должна буду полюбить? Фи!
– Пня? Старого пня? Неужели я для тебя настолько ничтожен и гадок?
Она прикусила губу. Очевидно забыв о своей притворной игре, полуобернулась ко Льву и тихонько спросила:
– Вы… ты хотел меня учить. Да? – Подпорхнула к зеркалу, оправила своё великолепное, такое невозможное в реальной жизни платье, кокетливо крутнулась на носочке: – Что ж, начнём! Учи, господин педагог!
Платком стала жёстко стирать с лица расплывшиеся, подсыхающие радуги макияжа.
– Узнаю прежнюю Машу – ироничную злючку. Умойся под краном, а то сдерёшь с лица кожу, – с насмешливой наставительностью посоветовал Лев.
Мария умылась, и ей с великой досадой показалось, что она стала выглядеть законченной дурнушкой. С полчаса в ванной, задёрнув занавеску, ухаживала за своим покрасневшим, чуть подпухшим лицом. Потом они сели за стол, разложили учебники и тетрадки. Он предложил заняться английским, но она, сморщив губы, возразила и предложила физику. Но, немножко позанимавшись формулами и задачами, она отодвинула на край стола учебник и тетрадку и заявила, что завтра в школе будут спрашивать по истории. Шумно шурша страницами, стремительно пролистнула до нужного параграфа, низко согнула голову и – заплакала. Он приобнял её за плечи, слегка коснулся губами её виска.
– Не отчаивайся, Мария. Жизнь устроится. Надо чуток подождать.
– Час, два?
– И не час, и не два. Надо – вытерпеть. Я понимаю: тебе тяжело. Ты такая бледная, раздражительная. То обливаешься слезами, то смеёшься. Вот что, пойдём-кась наверх – подышим мартовским воздухом, поглазеем на звёздное небо, как мы раньше с тобой это делывали. Одевайся!
– Не боишься, что улизну? Я ведь шустрая.
– Там высокий забор.
– Перелечу. Или буду вопить.
– Хватит болтать. Оденься потеплее и поднимайся следом, – уже взбирался он по лестнице.
Она с пристрастием покопалась в шкафу, отыскивая и примеряя тёплые вещи. Поняла, что не столько сезонная одежда ей интересна, сколько – чтобы всё на ней было модным и смотрелось круто. Вертелась перед зеркалом, примеряя платья и кофты, шапочки и кепи, куртки и пальто. «Что, мадама, хочешь понравиться этому дяденьке?» Он сверху подал ей руку. И она снова за собой заметила – свою протянула с кокетливым изяществом, с этаким красивым взмахом. «Актриса-белобрыса! Он что тебе – нравится?»

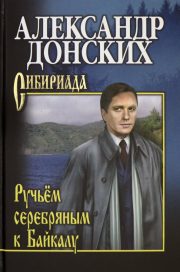
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!