Они, его мать и отец, друг для друга, несомненно, – судьба. А он, сын их, почему же без судьбы, без своей единой доли счастья в этом мире?
42
Своей неизбежной очередностью подошла по календарю весна. Однако едва не половину марта была она совершенно и наступательно зимней – без оттепели, без солнца даже, с тяжёлым обвислым небом, со снегопадами и вьюгами и неизменно следующими за ними стужами, словно бы ещё в феврале, одаряя Полину Николаевну, порастратилась, расщедриваясь, возвышенно и печально думалось Льву, природа своими весенними непреложными запасами. Но до чего бы ни уныло и неприютно было вокруг, а в сердце Льва устанавливалась понемногу весна, и его весной было его новое отношение к матери, в котором детская нежность к ней и жестокая укоризна к себе слились в горчаще-сладкое чувство. И, видимо, с этим чувством жить Льву долго, может быть, до скончания дней своих. «Крепка, как смерть, любовь», – часто и охотно вспоминал он невероятные и могучие слова, которые, оказывается, поддерживали мать, направляли её по жизни, насыщали живительностью надежды и чаяния её. И сын начинал догадываться, что, наверняка, мать словами Библии сказала не только о себе, о своей любви, о своих ожиданиях, но и нечто высокое и значимое завещала, передала, вручила ему, сыну, которого видела только несчастливым, одиноким, внутренне неустроенным, но которому хотела единственно счастья, везения, сил. Хотела ему, наконец-то, жены, семейного уюта, лада. Тебе, сын, жить, – угадывал Лев подсловие в словах матери, – но чтобы жить полно, достойно, нужно быть счастливым. Но чтобы быть счастливым, необходимо любить. Пожалуйста, полюби, найди свою судьбу. Разве тебе трудно, такому красивому, сильному, к тому же при деньгах, с прекрасным домом?
– Весна, весна… – сами собой порой шептали губы Льва.
Шла та весна, которую страстно ждала мать. Но матери теперь нет и никогда не будет. Никогда не будет. Никогда не будет его матери, той тихой, скромной, преданной своим детям женщины, но единственной и прекрасной для сына. Как же он смел столько лет не любить мать, пренебрегать ею, не понимать её, нисколько не силиться понять, по-настоящему посочувствовать ей, когда надо было? Ничего не поправить? Конечно, уже не поправить. Но для него жизнь продолжается, он ещё вполне молод и силён, он мало-помалу и неустанно вытесняет из своей души потёмки, он не скисает, а стремится жить достойно, как хотела бы для него мать его. Он не сегодня-завтра выправит свою судьбу. Конечно, выправит. А то, что он когда-то посмел не додать матери, он отдаст целиком и полностью своим близким и той, с которой он непременно окажется вместе. Похоронив мать, он неожиданно ожил сердцем для какой-то новой и, несомненно, большой счастливой жизни. И жить впредь он будет только любя, так, как прожила мать.
– Весна, весна…
Однако, наконец-то, что же за весна такая нынче – холод зимний до сих пор! В середине марта морозы хотя и отступили чуть, промелькнули по земле робкие оттепели, однако по ночам хрустела стынь, и по утрам воздух был непроглядно туманистым, серо-густым, задубелым. Днём сильное, ослепляющее высокое небо хотя и распахивалось, но потяги с севера студили, охлаждали, быть может, и сами солнечные лучи, поэтому не пригревало совсем. Покалывало и пощипывало лицо. Ну да Бог с этой такой неласковой весной вокруг. Весна подлинная – она в его душе, в которой скопилось и засияло столько томительных ожиданий. Льву даже кажется, что ежесекундно, круглые сутки светит солнце.
– Судьба, не обмани, подруга! Поманила? Так уж не увиливай, не насмехайся, как раньше бывало!
43
Льву кажется: люди, не чувствуют, что настала весна; им знобко, они всячески укрываются от холода, ругают морозы и хиус, да и жизнь клянут за одно. И Льву порой думается, что весну чувствуют, понимая и замечая её, только лишь он и Мария, и, выходит, наступила весна только лишь для них одних, а для всех – пока ещё зима, пока ещё прошлое.
Весна, мать, Мария, – минутами пьянело его сердце.
Но что же такое особенное происходило в Марии? Льву казалось, что с началом весны глаза её зацвели, и сама она вся словно бы раскрывалась, выявлялась каким-то, воображалось ему, прекрасным нездешним цветком. Лев понимал и радовался, что Мария день ото дня взрослеет, к тому же ей уже восемнадцать, она становится настоящей, как и мечтается ею, девушкой, но чтобы столь разительно изменяться с наступлением всего-то календарной весны – тут что-то такое чудодейственное, наступление, возможно, какой-нибудь сказки. Однако внешне Мария оставалась почти что всё тем же тонким, нескладно-высоким мальчиковатым созданием: всё той же была её шея – по-гусиному вытянутой, бледной, всё тем же был её рот – некрасивым, великоватым, но с узенькими змейками губ, всё тем же оставался и её нос – совершенно по-детски маленьким, чуть пипочкой. Но глаза её, – они, был убеждён Лев, любые её физические, возрастные шероховатости, несоразмерности оборачивали достоинствами, были милы и притягательны. Лев ещё тогда, давно, когда они впервые встретились, понял и сказал себе, что её глаза редкостные, богатые, роскошные и даже – непредсказуемые. А теперь к тому же ещё обнаружил, что они могут у неё цвести. Они у неё – то голубоватой водицей, то дымчато-расплывчатые, мечтательные без меры и предела. Но сейчас Льву не нравилось, что её глаза схожи с глазами Павла, отца её: не быть бы её жизни такой же горемычной, как у бедолаги Пашки, – другой раз тревожно задумывался Лев. Однако, радовало и утешало, глаза её изменяются, становятся другими, что в них, а стало быть, в её душе, выкристаллизовывается – так он про себя сказал и ему понравилось это высокоточное, хотя и несколько распяленное слово – нечто лично ей присущее. Следовательно, и судьбе быть иной – доброй и счастливой, – спешил обнадёжиться Лев приятными и желанными для него выводами.
Как же цвели глаза ныне весенней, цветочной Марии? Они цвели, ответил себе Лев, чувствами, вернее, многочувствием. Любит человек – глаза влюблённые у него; опечален – печальные глаза; весел – весёлые. Но в глазах Марии он не встречал ни влюблённости, ни опечаленности, ни весёлости, ни тоскливости – ничего такого привычного, обыкновенного, в чистом, так сказать, виде и проявлении. Они цвели именно множеством, бездной чувств, переживаний, мимолётных эмоций, желаний, мыслей и ещё чем-то неуловимым, беглым, быстротечным, как вспышка метеорита. В ней, очевидно, скопилась, развилась тьма желаний и, быть может, возжаждала она многое чего и сразу от жизни, но по младости своей и неискушённости не знала ещё определённо, что же именно ей надо, какому чувству, какой мысли, какому желанию ввериться, за кем, наконец, пойти.
Ещё он заметил необычную, раньше им не встреченную ни у кого из людей новинку в её облике цветущем – на лице пробился пушок, скорее, этакий микроскопический младенческий пушочек, к тому же какой-то розовенький. Наверное, пушок и раньше был, да и розовым он не мог быть, осознал Лев, однако ему хотелось обмануться: если уж цветёт его славная Мария, то – вся, целиком. Она – цветущая, она – розовая, она – сама цветок!
– Оперяешься, что ли? – однажды спросил у неё Лев, про себя примолвив птенец.
– Что, дядя Лёва? – не поняла она.
– Да так, ничего, – улыбается он, и улыбается по-простому, как давно уже не улыбался и не чувствовал жизнь и людей.
44
Но сама жизнь вокруг по-прежнему непроста, зыбка, изменчива, порой до капризности, а то и коварности. Лев бдительно и напряжённо видит: Мария остро и горделиво чувствует, что очень, очень хороша собой, привлекательна чертовски стала, что цветёт, что на неё смотрят, заглядываются, и надо полагать, что влюбляются. Конечно же, влюбляются. У неё и раньше было немало друзей, отныне же она попросту стиснута парнями и подружками: к ней льнут – общительной, умной, свойской, отзывчивой девушке. А Лев – переживает, изводится. Принялся снова подслеживать за ней: возвращается ли она с учёбы, пошла ли на дискотеку, с друзьями кучкуется ли на улице, во дворе – он, нередко случается, находится где-нибудь поблизости в автомобиле за шпионской драпировкой затенённых стёкол. Поджидает, высматривает, вглядывается, вслушивается. Понимает – глупо, наивно, до некоторой степени безрассудно себя ведёт, но что же делать, чем унять тревогу, минутами перерастающую в смятение?
В особенности Льва беспокоит и нервирует один парень, который с февраля каждый день поминутно звонит Марии на мобильный, заваливает эсэмэсками, а вечерами вызывает её на лестничную площадку, и они о чём-то тихонько говорят, шепчутся, подозрительно шурша одеждой. Лев порой приоткрывает входную дверь и, ощущая омерзение и ненависть к самому себе, подслушивает.
– Серёженька, не надо, прошу, – бывает, шепчет, задыхаясь в сладкой истоме, Мария.
– Ещё немножко. Ещё, ещё. Будь смелее, детка!
– Да отстань ты!.. Ай, ладно уж…
Льву становится муторно, противно, – торопливо, но слепо, с упёртыми в землю глазами, уезжает домой, в своё логово, в Чинновидово. Однако там не легче: там тот же беспросвет одиночества, там уже удавкой тоска, там сызнова неустанно мысль гложет: зачем ему дом, если душа не сегодня-завтра погибнет, осыпется прахом тления? А нет души – и нет ничего, даже сам человек уже не совсем человек. Край, если дом родной не в радость стал! Только и останется, что ходить-бродить живым мясом по земле или опять начать залезать в яму, и неважно, под гаражом ли она или где-нибудь в другом месте, настоящая она или воображаемая, возможно, продиктованная – Лев когда-то, ища путей жизни, штудировал Фрейда – собственным подсознанием, страхами, заблуждениями.
Серёженька этот – кучерявый красавец, стройняга рослый, одет прилично, даже с шиком. И весь он такой уверенный, дерзкий, но и, надо признать, солидный, важный, – видимо, барчук, голубой крови. В такого девчата должны влюбляться мгновенно, с ходу, едва помани он. Лев, выслеживая, вызнавая, видел его с другими девушками, он их тискал, он что-то шептал им на ушко, он был дерзок и хамоват ручёнками. Несомненно, что Мария для него, этакой заведённой гармональной машины, – всего-то одна из них. А потому понятно как ясный день: ещё немного и уведёт он Марию, такой настырный, неотлипчивый, заморочит ей, неискушённой дурочке, мозги, сшибёт её с пути, – не устоит Мария, падёт. Что же делать? Услужливо подступает наипростейшая мысль: а если этого липунчика отвадить – припугнуть, шею намылить, к примеру, или – или что, что же такое ещё можно предпринять? Но наперекрест является другая мысль, с холодной резонностью увещевая: отвадить, конечно же, можно этого, но тотчас – точно, точно! – начнут заходить кругами хищников вокруг Марии другие всякие разные серёженьки-сашеньки-петеньки; и не отбиться будет, потому что легионы их, жаждущих побед, удовольствий, жизни.

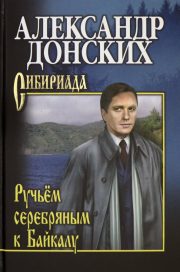
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!