Рассказала о том, что когда-то её семья жила хорошо: отец трудился на заводе, мать домохозяйствовала, потому что детей четверо, – она, Мария, старшая, и братишки с сестрёнкой, совсем малышата. Но стряслась беда, выворотившая жизнь семьи наизнанку: завод почему-то закрыли, работников уволили. Отец не смог найти постоянную работу, а редкая подёнщина бренчала в кармане копейками, – вскоре запил горько, беспробудно и однажды замёрз в снегу. Мать два-три года отчаянно билась, однако не вынесла гнёта судьбы и сорвалась в беспросветную, как пропасть, разгульную жизнь. Дети не обуты, не одеты и даже случалось, что поесть дома нечего было. Раньше приходили в квартиру всякие разные мужчины, с недавних же пор обитает в ней на правах полновластного хозяина только «дядя Коля», «урод и извращенец», «уголовный тип». Он надругался над Марией. А как-то раз привёл её к ближайшей трассе и сказал: «Зарабатывай, Машка, нечего болтаться без дела». Она и сама понимала, что надо содержать братишек и сестрёнку, как-то матери помогать. Перестала в школу ходить – есть работа. Теперь дядя Коля и мать в хмельном угаре сидят дома и поджидают Марию, «нашу кормилицу», говорит, но тут же подвывает, мать.
Лев слушал и как бы вглядывался в уже давно им обдуманное и понятое: в России неустрой государственный бывает пострашнее войны внешней. И нередко негласным, но непреложным законом выходит, что беда в стране – беда в семье. Может быть, верны эти слова не для всего света белого, однако в Матушке России являющееся, отчего-то непременно обвалом, стихией, беспощадностью, общегосударственное неблагополучие извека зацепляет, точно бы крюками, многих и многих и затягивает за собой в хляби разорения, ожесточения, порочности. И кто умудряется выжить да удержаться на ногах и не утерять душу, потом потихоньку, шаг за шагом выкарабкивается наверх к какой-то новой, верится, что правильной и справедливой, жизни. Нынешнее время, время начала нового века и даже тысячелетия, – время очевидного для Льва разворота, возвращения к разумной, а то и добросердечной жизни, однако все ли смогут выкарабкаться, все ли, прежде всего и главное, здоровы душой?
Лев подъехал к ближайшему кафе. Выспросил Марию, где она живёт: пообещал, что прямо сейчас поможет деньгами и её матери.
– А ты, Мария, пока наешься-ка от души. И знаешь что ещё? Постарайся стать хорошим человеком. Договорились?
– Уга, – ответила она не сразу и – усмехнулась. Видимо, не скоро ей поверить, что люди могут быть, и должны быть, просто добры друг к другу и даже великодушны.
Когда взбирался на пятый этаж, даже не знал, не понимал внятно, что скажет, как поступит. Дверь открыло заспанное, заросшее, горбато-сутулое, длиннорукое существо, более похожее на шимпанзе, чем на человека. Оно, – прозвучало во Льве.
– Ты, что ли, дядя Коля?
– Чиво? – заробело оно перед крепким солидным незнакомцем.
Лев вошёл в тёмную, сырую и по-нориному дурно пахнущую прихожку, туда же наступательно грудью уткнул окоченевшее, но ощерившееся оно.
Первое, что Лев рассмотрел во мраке, – настенное зеркало. И что-то мгновенно и ярко, как ярость, в нём решилось, а в груди загорелось и заклокотало бешено.
– Посмотри, дядя Коля, в зеркало.
– Чиво?
– В зеркало посмотри, сказал.
Оно в зверовато учуянной опасливости глянуло искоса.
– Запомнил свою морду?
– Чиво-о-о?!
– Больше ни ты себя, ни кто другой тебя таким красавчиком не увидит.
И только оно хотело шмыгнуть в ванную комнату, чтобы там, видимо, запереться и взывать о помощи, как Лев молниеносно сгрёб его за шерстисто-грубый, свалявшийся загривок и впечатал физиономией в зеркало. Ещё, ещё раз. Не жестоко, не злобно, но – бесчувственно и даже без чувств, как механизм, автомат с когда-то и кем-то введённой программой к действию.
– Бог, говорят, любит Троицу, – сквозь зубы, но потерянным голосом подытожил Лев, с трудом разжимая окостенело побелевший кулак.
Оно рухнуло на пол. Лев, страшный, сгорбленный, с крепко зажмуренными глазами, обморочно покачивался над жертвой. Вчуже, отдалённо, словно бы даже со стороны почувствовал себя кем-то, или даже чем-то, другим, быть может, не совсем человеком. Возможно, когда он увидел в дверях это самое оно, в нём мгновенно проснулось глубоко укрытое природой и всей человеческой эволюцией чутьё дикого создания, быть может, вовсе не человека, а животного, которое способно уничтожить в одночасье, без колебаний то, что угрожает его жизни и выживанию. Минута, две ли прошли, и Лев почувствовал – в груди что-то стало перетекать, переделываться: догадался – перерождалось нечто звериное, стихийное или механизированное в человеческое, ограниченное рамками рассудка и морали. Сдвинулись мысли, – следовательно, человеческое одолевало, устанавливаясь на своё привычное место.
Склонился к своей жертве – жива, сопит.
Из смежной комнаты, видимо, на шум, выбрела босая, заспанная до жуткой опухлости женщина. Хотела, но не смогла вскрикнуть, оглушённая страхом.
– Жить будет, – сказал ей Лев. – А радоваться жизни – уже вряд ли. По чертам лица вижу, что вы мать Марии, и я, собственно, пришёл к вам: возьмите, пожалуйста, деньги. Не бойтесь – берите, берите смело! Ничего взамен не требую, просто по русскому обычаю подсобляю. Почти как погорельцам. Всякий человек может попасть в беду. Марию, прошу, верните в школу, маленьких своих детишек обуйте, оденьте. Жить по-человечьи, наконец-то, начните. Советую: вот этого обезьяноподобного фрукта, немного когда поправится, в шею прогоните. Если будет упираться, припугните: скажите, что я ещё разок приду потолковать с ним. А узнаю, что разгульно живёте и Марию снова отправляете на трассу – убью. Понятно?
– Понятно, понятно! Ай, грешница я окаянная, ай, совсем обезумела баба – этакое сотворила с Машенькой, с доченькой моей ненаглядной, с умницей, с такой прилежной девочкой! Нет и не будет мне прощения! А денег-то ско-о-о-лько! Низкий вам поклон, добрый человек. Уверена, супруг мой Петя смотрит сейчас на нас с небес и тоже кланяется и молится за вас. Дайте я вашу руку поцелую, благодетель, ангел хранитель вы наш!
Лев отмахнулся и, наморщенный досадливо, до брезгливости, с сжатой челюстью, стремительно вышел.
Вспоминая об этом происшествии, он поражался: как мог он до такой степени легко, даже буднично произнести невозможное и чудовищное для себя – убью. Самое же важное, но при этом маловразумительное для него, – ведь и в самом деле чуть было не убил человека. Каким бы ничтожным, мерзким и даже преступным этот дядя Коля ни был, но он – человек. Человек. Да, без сомнения: человек. И страдающий совестью и мнительностью Лев глубоко и печально задумывался: неужели его неприятие современной жизни, да что там жизни! – мира целого, мира беспутного, людской породы всей, породы извращённой, гадкой, уже мутирует в озлобление, в зверство, в патологию, а может быть, даже в необратимый недуг – в безумство, в сумасшествие? Похоже, что неспроста время от времени тянет его в яму – в своё укромное, почти звериное подземное убежище под гаражом, где находишься подальше от людей.
При всем при том, однако, Лев искал слова объяснения и оправдания своего поступка и – находил их: это похотливое, ничтожное оно, хотя и мизерное, как молекула, хотя и отдалённо по своим поступкам и внешности напоминает человека, однако точное и бесспорное отражение одного из несчётных безобразий и уродств сего мира, и можно сказать, что он, Лев, словно бы заставил его, мир посмотреться в зеркало: ну, что, нравишься себе? Дядя Коля изобличён и наказан. И может статься, что на одну молекула зла в мире стало меньше. Не надо сомневаться, что он, Лев, поступил правильно и справедливо – проучил изувера, защитил бедную девушку, помог её семье. Однако как бы он себя не урезонивал и не успокаивал, а чувство омерзения не покидало, едва припомнится содеянное, совесть не давалась, чтобы уговарить себя, и нет-нет, да вопрошала у него, да жёлчно, без пощады: а не он ли сам ещё одна отвратительная и к тому же бесполезная молекула этого мира? Мысли, крепчая, глодали и порой нешуточно напирал вопрос: далеко ли от самоедства до пули себе в лоб? Что ж, стоит поразмыслить основательнее! Но неужели всё же столь никчемна, пуста, отвратительна, даже для него самого, жизнь его, неужели так вот корпеть весь свой век, изгрызая себя изнутри? Может быть, разумнее уйти в небытие пораньше положенного срока? А что, револьвер, красавец револьвер коллекционных знатных кровей, припасён, томно, в явной скуке лежит в изящном футляре, – действуй хоть сею минуту!
Однако жизнь словно бы прислушивалась к его мыслям и сердцу – не позволила, смилостивилась: поначалу слегка и деликатно, а в последующем решительнее поворотила его на новую, нехоженную тропу, приоткрыла перед ним иные просторы, повлекла куда-то дальше.
Ручьём серебряным к Байкалу -
в водовороте свежих ощущений и мечтаний минутами припоминались Льву непонятно зачем и неведомо кем произнесённые когда-то на берегу священного моря слова. Хотя догадаться он мог да и понимал: подчас душа раскрывается цветком благоуханным и прекрасным и сама для себя, как цветок ароматы, сокровенно порождает стихи и песни. Бывает так!
Но если всё же жить – то для чего, во имя чего, как? Ответов удобопонятных и ублаготворяющих не было. Надо же, в его-то возрасте, с его-то опытом взлётов и падений, уразумением жизни и людей! – недоумевал он. Может быть, пока? – подавала голосок надежда из каких-то глубей его нестойкой и робко верующей сущности.
34
Столкнувшись с беднягой Марией на трассе, Лев не мог не вспомнить другую Марию – Машеньку, Марию Родимцеву, ту маленькую девочку с поразительными серьёзными глазами взрослого вдумчивого человека. Хотя и минуло немало лет после их первой и единственной, мимолётной встречи, но временами, в светлые минуты надежд и лёгкости сердца, вспоминалась она. Вспоминалась, осознавал Лев, чему-то застарелому в грустной иронии усмехаясь, как родственная душа, как душа, за которую тревожно: что она, каково ей в этом каверзном и коварном мире? Похоже, он думал о ней, как о своей дочери, и ему казалось, что она не выросла за годы, а по-прежнему такой же болезненный, худенький, беззащитный ребёнок, лежащий в детской кровати и хитренько подсматривающий за вошедшими к ней взрослыми. И теперь, уже там, на трассе, когда Мария-блудница спала, сам собой в тишине и грусти явился и насторожил вопрос – не скомкана ли неблагоприятными обстоятельствами и её жизнь? Тем более стало неспокойно Льву, когда до него дошли слухи, что Павла Родимцева снова закуролесило, запотряхивало по дорогам жизни, что человек в очередной раз сорвался и завис на краю.

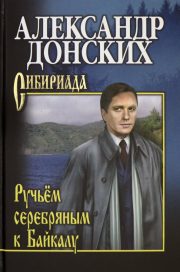
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!