Посмеивался, но невесело, в тяжёлой, погружённой задумчивости:
– Не иначе, обеляю свою паршивую душу.
Раз за разом, точно бы заворожённый, обходил дом снаружи, строго, придирчиво разглядывал его издали с разных точек на общей серой волне старого посёлка и утверждался во мнении, что его дом, при внешней схожести с привычными или слегка отклонившимися от чего-то среднего, типового домами, у которых имеется обязательные фундамент, стены, окна и крыша, разительно отличается ото всех окружающих домов и от тех сельских жилых строений, какие он видел где-нибудь или строил сам. Что-то противоестественное ему виделось в своём доме, помимо того, что он сверкающе, торжествующе, быть может, нескромно белоснежный. Дом, думалось многим, и слухи о таких разговорах доходили до Льва, царил над округой. Он не походил ни на одно строение окрест.
– Я дом строил или – какое-то святилище? – морщился Лев.
И он вправе был задать себе такой вопрос, потому что второй этаж получился несоразмерно вытянутым, зауженным и венчался овально-округлой, по верхушке опять-таки несоразмерно узкой черепичной кровлей, которая издали напоминала куполок.
Что он, горе-инженер, такое построил? Как этакое недоразумение могло получиться? Он же всего-то хотел иметь обычный дом, чтобы в годах жизни наполнить его душевностью и разумностью. Но выходит, что он, маэстро, белым цветом нарисовал-намалевал свою мечту. Похвально, конечно же, похвально! Однако теперь не помешало бы ответить самому себе: он собирается жить в своём доме, просто жить, как все люди, или – молиться, выпрашивая и выцыганивая удачной судьбы? Запутался, что именно ему надо: просто жить или – святость?
– Что ж, буду заполнять святостью пустоту моей души. По крайней мере есть чем заняться в свободное от работы время.
Внутри дом тоже получился, по определению Льва, не совсем нормальным: все шесть спальных комнат первого этажа выходили в одну большую овальную залу с огромными окнами на три стороны света. С утра и допоздна зала всегда ясна и озарена естественным светом, а в погожие дни она до краёв залита и потоплена солнцем. И солнце, думалось Льву, тоже жилец его дома. Разве в таком месте кто-то может быть несчастным? И ему порой представлялось, как его близкие, родные люди выходят по утрам из своих искусственно освещённых комнат и, желая того или нет, – ныряют в море солнечного сияния.
– Не утонули бы, – тут же пытался он иронизировать, в уже становившимся привычным ворчливом тоне, но образы тем не менее были радостью и утешением для него.
29
Казалось бы, жизнь Льва должна теперь уложиться. Дом, квартира, деньги, самостоятелен до мозга костей, не болен, не урод, силён, умён – что, спрашивается, ещё надо человеку.
Но прожил он в доме год, минул и второй, набегал однозвучной волной уже третий, – ничего не переменилось. Годы ощущались тишиной и сумерками. Он был по-старому одинок и душевно пуст. У него были компаньоны, родственники, соседи, какие-то женщины появлялись для необязательных и скучных романов, в нём также в избытке и крепе властвовало здоровье и не сдавалась чарующая женщин красота лица и тела, но ни в нём, ни рядом где-то не засияла любовь – его любовь, для него любовь, та любовь, единственная, к единственной и во имя единственной. Сердце – камнем – безмолвствовало. Хотя бы в рай попади, а и он, наверное, омерзеет, если нет в сердце ничего, – тягуче и нудно думалось Льву его долгими одинокими вечерами вне сутолоки строительных площадок и офисов. И он уже был уверен, что всё же построил не дом, чтобы жить в нём и радоваться, а – храм, чтобы – ёрничал он над собой – христарадничать и выпрашивать у Бога милостыню – простое земное человеческое чувство.
Жительствовать одному в столь большом доме было невозможно, нравственно тяжело, можно, чуял Лев, помешаться, и он сначала поселил у себя мать, а потом – разошедшуюся с мужем сестру Агнессу.
Мать поселил, потому что она попросилась сама. Полина Николаевна уже сделалась жалкой, больной и отчего-то быстро – с тревожным равнодушием замечал Лев, изредка навещая мать, – старилась, дряхлела, грузнея, скрючиваясь, сморщиваясь. Встречаясь с сыном, она по-старушечьи оглохло-однообразно ворчала, кляня весь белый свет, и за то, и за другое. Раньше она была сдержанной, холодноватой, ласково-строгой, соседки за глаза величали её Снежной королевой. Теперь что-то в ней растаивалось, расползалось. От её некогда гордой осанки ничего не осталось: спину сгибал недуг, а ноги безобразно налились венами, раздулись. Было трудно поверить, что когда-то Полина Николаевна была красавицей, блестящей домохозяйкой с медицинским образованием. Похоже, она невозвратимо невзлюбила жизнь и людей: все и всё было для неё скверным, неинтересным и даже отвратительным. И она, полагал Лев, не притворялась: видимо, и впрямь ей прискучила жизнь, в которой она не смогла и не сумела стать счастливой и как-то умиротвориться. Быть может, теперь высветилось нечто такое истинное её. Старость и болезни сдирают с человека, как кожу, фальшь и со всей жестокостью изобличают его перед всеми, – холодно итожилось в нудных размышлениях Львом. Одиночеством и злостью на мужа, который лишил её удовольствия жить в благе супружества, семьи, отнял будущность довольной, дарящей радость своим близким домохозяйки, она расстроила свою душу, и теперь чахнет и тлеет. И сможет ли она внятно ответить, если кто у неё спросит, зачем жила? – по-прежнему был неумолим в себе её вгрызающийся в смыслы сын.
«Так и я закончу?»
«Ну уж нет!»
«А почему нет? Очень даже да».
Но Лев понимал, что выше матери нет и не может быть ничего в целом свете, что мать надо, прежде всего, пожалеть, чем-то и как-то вдохнуть в её жизнь кислорода любви и сердечности. И потому он выделил ей лучшую комнату, обставил превосходной мебелью, завешал и устелил дорогими коврами, намонтировал разных электронных приспособлений. В её комнате был и биотуалет, и холодильник, и телевизор с дивным размером экрана, и ещё компьютер с выходом в паутину интернета – и многое что ещё, лучшее, под боком, не надо никуда ходить, если что. Радуйся, казалось бы, коротая старость. Но – сын всё также не называл маму мамой, а когда спохватывался, то стыда и жалости в себе уже не находил. Она же не напоминала ему, не обижалась, быть может, уже забывая, кто она для него. Лев понимал: этим нагромождением великолепных вещей в её комнате, этой лавиной нужных и ненужных удобств он отъединился от матери как никогда ещё, или даже – откупился от неё. А надо просто-напросто пожалеть, сказать человечье ласковое слово, – урезонивал и упрекал он себя, но сердце его молчало и для матери. Они уже ни о чём друг с другом не спорили, не вспоминали отца, она не настаивала на женитьбе. Каждый жил как моглось, по-своему, отъединённо нравственно на большое расстояние друг от друга.
Если не попросилась бы – поселил бы он мать родную у себя? – спрашивала Льва его «подруга-тоска». Однако ответить прямо и открыто ему было противно: он чувствовал к себе напухающее и вроде бы чем-то садящее омерзение и гадливость. Но обманывать себя он не хотел – ответил: не предложил бы. Нет её рядом – пусто, но рядом она – всё одно пусто. Выходит, что он не может, не способен пожалеть даже родную мать.
– Эгоист. Конченый эгоист. Потому и сердце моё неживое, омертвилось раньше моей собственной смерти.
30
Агнесса однажды приехала в гости и как-то незаметно осталась жить в этом, как она выразилась, «суперном» доме брата, хотя у неё была в большом городе другой области приличная двухкомнатная квартира. Лев хотя и недолюбливал сестру, однако не возразил.
Агнесса была, на взгляд брата, странной, однако – спокойной, уравновешенной, вполне благоразумной женщиной. Они были внешне схожи: та же породистость, телесная красота в ней наличествовали, что и в брате, выпуклыми, приманчивыми для сторонних глаз. Только она походила на отца, а он – на мать. Агнесса была помладше Льва, но выглядела старше, скорее утомлённо и придавленно. Она под влиянием матери закончила медицинский институт, но своей профессии терапевта, как, кажется, и мать, не полюбила: её тяготили люди со своими дурацкими болезнями, вечным нытьём. Уже на второй год работы в поликлинике она «умаялась сочувствовать им». Агнессе временами начинало чудиться – что ни больной, то притворщик, хитрец. Ушла в другую профессию, потом – в третью, в четвёртую, ещё во что-то. Домохозяйкой, о чём мечталось, побыть не довелось: мужья зарабатывали мало.
Когда Агнесса работала в поликлинике, Льву приходилось по сердцу, что его сестра медик, врач, доктор, ему даже сами слова эти нравились. Он ощущал и убеждал себя, что медицинский работник не только лечит людей, но и помогает исправиться человеку, вылечиться для новой, несомненно, более правильной, разумной, но и душевной жизни. А лечить, врачевать нужно всех, полагал он, с годами утверждаясь в этом суждении. Когда же сестру «закорёжило», он ни разу ни у кого не поинтересовался, где и кем она работает. Теперь Агнесса, кажется, и вовсе нигде не числилась, в город из Чинновидова выезжала редко и неохотно, и Лев понимал, что она, видимо, вывела для себя: к чему работать, если дом брата полон всего, чего душа пожелает. И, быть может, полагала: почему бы ей не пристроиться здесь в домохозяйки.
Замужем она побывала три раза и теперь любила поплакаться знакомым и матери, что бывшие её мужья – люди бестолковые, бессердечные, «да что там – скоты». Но брат однажды пресёк её:
– Скажи-ка, сестрица, а любила ли ты своих мужей? Молчишь, нечего сказать? Вот и молчи! И не ври ты, пожалуйста – они все стоящие мужики! Сколько горбатился на тебя Пётр, твой второй? А ты ему поминутно талдычила – денег, денег, денег давай! Сбежал мужик, даже личных своих вещичек не взял. Ты любила и любишь только себя, и выскакивала замуж единственно, чтобы брать, а не давать.

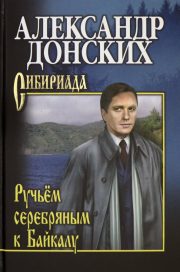
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!