Однажды вечером, уже зимой, к нему пришла Любовь. Она, выхуданная, цыплячьи-жёлтая, заплакала тоненько, по-детски шморгая зарумянившимся носом. Припала завитой головкой к его плечу и говорила, что любит, что хочет с ним жить и верной быть ему, и детей ему родить, и что-то ещё обещала. Он выслушал, ни словом не отозвался, не посмотрел в её глаза, а когда она замолчала и только всхлипывала, легонечко взял её за локоток, вывел за дверь вагончика, подвёл к воротам стройки.
– Ты ни в чём не виновата: живёшь, как можешь. Именно живёшь. Так, наверное, и надо. Вот и живи. А виноват только я: виноват, что потянул и тебя, и себя…
Не договорил, наверное, усомнившись, то ли нужно сказать. Зачем-то мотнул головой вниз-вверх, сморщился:
– Прощай, Любовь. Не поминай лихом. Ты ещё найдёшь, что ищешь.
Распахнул ржавую, утробно гудящую под напором ветра калитку, сваренную из труб.
Люба ушла в сумерки зимы, оглядываясь, но он не смотрел ей вслед. И больше он Любу не видел и ничего о ней не слышал и не узнавал. Но вспоминал. Ласково, благодарно вспоминал. И – грустил. Всё же грустил. Он не мог от себя скрыть, что она была первой в его жизни девушкой, которую он хотел и должен был любить по-настоящему – на всю жизнь и больше.
23
Потом поселился у матери. Она настояла:
– Да ты что же, сынок, как бич, при живой-то матери мотаешься то по общагам, то по каким-то прокуренным конурам.
Она и не спросила его ни тогда, ни после, отчего с ним теперь нет рядом Любы. Оба, казалось, притворились, что и не было никакой Любови, не было никаких разговоров о свадьбе. Видимо, матери знают, как никакой другой человек в целом мире, какая жена нужна их сыновьям.
Но с матерью ему не хотелось жить: она по-прежнему ждала невестку, ждала внуков, ждала, когда же её такой замечательный сын станет просто счастливым человеком.
Жилось Льву плохо: одиноко, неприютно. Только и хорошо было, что умел деньги зарабатывать, и зарабатывал столько, сколько хотел. Но и деньги не радовали. Радовало и тянуло дальше идти по жизни, что работы было по маковку: втянешься – и потянул воз, некогда унывать и умствовать. Но чуть какое затишье в его жизни – чуял порой, что сердце начинало тяжелеть и нахолаживаться, «льдилось». Подолгу лежало опущенно, не на своём месте. Как приподнять его, вернуть в грудь, согреть?
Напросился на северную стройку: ярко и томяще помнил, что Север когда-то живил и бодрил его душу, что нравилась ему муравейная, согласная жизнь сорванных со всей страны молодых и молодцеватых строителей, что немедля и радостно втягиваешься в общие дела и забываешь о своих нудящих и горчащих, хотя бы до ночи. Возводился горно-обогатительный комбинат – гора и бездна металла, железобетона и алюминиевых панелей взгромоздившаяся и вбурившаяся в землю здесь, в жуткой лесотундре, в необжитых, диких краях, в которых лишь только несколько недель в году тепло и зелено, а остальное время – беспросвет морозов и снегов. Ещё кровли не было, всё в кранах, лесах, опутано кабелями и шлангами. Ночь озаряется беспрерывными всполохами электрической сварки. Ни днём, ни ночью тишины – рёв автотехники и сирен. Люди обретались в вагончиках и работали трёхсменно: вздремнул в бытовке, протёр глаза, перекусил и тут же выходишь на смену. Все жили работой, стройкой, заработками. Гитары и магнитофоны, вино и спирт, карты и шашки, драки и бурные замирения, бравые пачки денег и похмельное безденежье, хрипатый мужичий гогот и кокетливый женский писк, пропахшие потом и табаком бытовки, спальные аскетичные балки и шикарное убранство целых трёх (на крохотный посёлок) ресторанов – необыкновенная обыкновенная жизнь алмазного Севера, северянина-перекати-поле. Но такая жизнь очаровывала людей, надолго забирала из семей, из безветрия и скуки большой земли – материка, и кому-то позднее приносила счастливое обеспеченное бытьё, а кому-то – развалины, болезни, пустоту.
Раньше, в молодости, Север восхищал и дивил Льва, тянул к себе нежно и романтично. Но теперь что-то странное, неподвластное Льву творилось в его сердце, что-то сломалось внутри. Ему стало казаться, что жизнь вокруг противоестественная, ненормальная, чуждая ему. «Что я здесь делаю, зачем?»
Полгода пожил на Севере; ещё месяц, другой минул. Не выдержал. Чуть не с первого дня мутило его от ненавистной ему общежитской жизни, хотя, как инженер, начальник участка, размещался он в отдельном балке и в компаниях почти что не бывал. Раздражала его людская запанибратская перемешанность, «театральная», как он теперь считал, приподнятость в людях. Хотелось простого – тепла и немудрёности в отношениях, хотелось рядом родной, родственной души. Не радовало его и то, что он причастен к столь грандиозному строительству, созвавшему к себе тысячи сильных, несомненно, замечательных людей. Не утешали и зарплаты, выше в пять-шесть раз материковских.
«Зачем мне этот размах, этот героизм, если истинное счастье способно уместиться только лишь в сердце?»
Даже лесотундра становилась ненавистной и чувствовалась им какой-то никчемной на этой планете, бесполезной со своими лютыми морозами, не менее лютым гнусом, чахлыми деревцами, вечно серым, прогнутым, омертвелым небом.
«Старею, что ли? Сердце стягивается книзу и, чую, разбухает, не может удержаться на своём месте. Что со мной, что со мной? – И сам же отвечал порой: – Да та же волынка, братишка!»
Не втянулся, как ни старался, в коллективную, «муравейную» жизнь и уже не верил, что, как полагал, уезжая из Иркутска, Север «выморозит» в нём хандру, обвеет, освежит всего, направит к чему-то новому, созидающему.
Неожиданно, можно сказать, бегством, в спешке передав дела изумлённому помощнику, ночным рейсом улетел в Иркутск, сам не зная хорошенько, зачем. И уже не вернулся.
«Не от себя ли снова бегу?»
Ощущал и размышлял, что судьба, подобно слепой и глухой лошадь, тянет его за собой в какой-то скрипучей повозке. Он же только лишь может лежать на её жёстком днище, обездвиженный, безвольный и даже равнодушный. И единственно что видит – сменяющееся, но однообразное небо да свисающие кусты знакомых или неведомых деревьев, которые так и норовят царапнуть по лицу.
24
Снова стал жить в Иркутске и долго никуда не выезжал.
Город, его таёжные окрестности, Чинновидово, Ангара и Байкал по-настоящему притягивали Льва, особенно после квёлости лесотундры, технологически и прагматически до последнего гвоздика устроенных северных рабочих посёлков. Может, и вернулся к тому, что роднее, родственнее, нужнее сейчас. В припылённых, скособоченных, прошлого века домах Иркутска, в его облике, который изрезан морщинами заулков и улочек, в его живых или разваленных церквях, в его зеленовато-бирюзовом ожерелье – Ангаре, в его новостройках и воссозданных купеческих усадьбах, – во всём этом по преимуществу старом, неухоженном, но тянущемся к нови и красоте городе он так же, как раньше, и как всегда, находил успокоение. Иркутск ему виделся живым, естественным, природным: одно в нём отмирает – другое начинает жизнь, одно прекрасно – другое уродливо, одно пора снести, спрятать с глаз – другое восстановить и лелеять, потому что оно прекрасно, потому что оно нужно людям, только, видимо, не все это понимают пока что.
Любил иркутян и всегда угадывал точно, что перед ним именно коренной житель Иркутска. Особенным в иркутянах ему представлялось то, что они похожи на деревенских жителей: угадывались в них остатки старой неторопливой сибирской жизни. И себя Лев, со странной горделивостью, не считал городским. Представлялось ему, что он старомодный с головы до пят, и хотелось считать себя деревенским человеком. Его всегда тянуло к природе и жить естественным, извечным её ходом; чувства и помыслы звали к иным формам жизнеустройства и жизнестроительства.
Приезжал в Чинновидово, на свой забурьяневший, одичалый участок. А кругом уже поднимались дома, исключительно роскошные усадьбы состоятельных людей. Лев сиживал на почерневших, когда-то ошкуренных и приготовленных для беседки, брёвнах, рассеянно смотрел своими большими грустными глазами по сторонам, дышал сосновым воздухом, слушал тишину леса и поля. Строиться не начинал, но чувствовал, что не выдержит – возьмётся. И возьмётся по-настоящему, потому что как можно строить дом, а значит, и свою душу, по-другому, иначе? Временами бывало немножко завидно, что люди вокруг застраиваются, обустраиваются, оседают со степенностью; сосед иногда уже ночует в своём недостроенном доме.
Но не приступал, тянул, раскачивался. Зачем-то купил крупногабаритную пятикомнатную квартиру, хотя и двух комнат, одному, хватило бы. Теперь особняком зажил. Избегал матери, уставал от её стареющих, но ждущих глаз и ласкового до заискивания ворчания. И, кажется, снова забывал называть её мамой. Жил один, одиноко и уныло, но не позволял себе ни лишней рюмки спиртного, ни тем более какого бы то ни было разгула и безалаберщины. Женщины, правда, появлялись в квартире, но только тогда, когда одиночество совсем уже становилось невыносимым, давящим. Лишь на работе, в делах, в суете людской и спасался.
Не выдержал – взялся строиться в Чинновидове. Какое-никакое, но дело, к тому же «пользительное» развеяние нелёгких чувств и мыслей. Однако не понимал ясно, зачем ему одному огромная квартира и выходивший шестикомнатным и двухэтажным да с цоколем и с надворными постройками загородный дом.
Однажды Лев задумался, и ему неожиданно и обидно открылось: всё, что он строил, дома, цеха, гаражи, ещё ничего ни разу не достроил до конца, не загнал, как говорят строители, под кровлю. Всегда куда-то срывался, находил что-то интереснее, денежнее, а то и бестолково метался, откровенно чудачествовал. Выходит, что другие заполняли за него пустоту мира, а он, точно бы с торбой, носился по свету со своей «калекой-душой», искал для неё прибежище. И она, был уверен, потому, может, и оказалась недостроенной, даже в чём-то, можно предположить, неполноценной, что сам он не привнёс в этот мир ничего завершённого, настоящего.

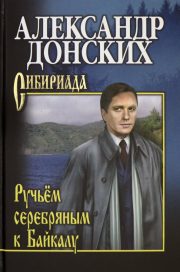
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!