– Почему ты такой сухарь? – отважилась спросить его, и получилось взыскательно, насупленно.
Но тут же не выдержала – прижалась к его плечу, желая поцелуя. Однако он хотя и легонько, но решительно отстранил её, странно и резко сказал:
– Не спеши, девонька моя. Кто и что о тебе не говорил бы, но для меня ты всё одно чистая и святая. Чистая и святая дева – такой ты мне и нужна. Не спеши, прошу.
– Чё? Чистая и святая? Де-е-е-ева?
– Не «чё», а что.
Она притворно захохотала, дерзко-кокетливо откинулась кудряшками на подушку, на единственную подушку, на которой и он лежал.
– «Что»? О-о-о, «что»! Теперь правильно, мой учитель? Ещё повторить?
Дерзостна, а слёзы обиды сдержать уже нет сил. Он промолчал, покосился на её высоко открывшиеся из-под края подола точёные ножки, заброшенные на одеяло. Перевалился лицом к стенке.
– Ты думаешь, что я какая-то особенная, не такая, как все? Что я, сказал ты, дева? – по-особенному – с ласковой язвительностью – произнесла она «дева», морщась от досады на недогадливость кавалера. – Да ты что: я баба бабой! Забыл, бедненький? – уж и родила! Мозги тебе зашибли, что ли? – хотя и на вызове, но придавленно засмеялась она.
– Ты станешь девой. Если захочешь.
– Стану девой?! Если захочу?! – на полдыхании переспросила она и порывисто заглянула в его лицо: подтрунивает, издевается? Что за человек такой! Вроде бы не дурак, при деньгах, разодет весь, начальник большой.
– А к чёрту мне девой становиться, объясни-кась, Лёвушка? Да к тому же какой-то там чистой да святой. Мне и просто бабой, рожавшей бабой, бабой-дурой, не хило живётся.
Он молчал. Ей надоело ждать – снова к нему прильнула, но он опять никак не откликнулся. Лежал с закрытыми глазами и, слышала она, дышал в стенку.
– Сопишь, барсук?
Она встала:
– Дурак ты, вижу. И бесчувственный. Чурбан чурбаном!
Хлопнула его по спине и в плаче выбежала, хлобыстнув дверью.
Она не знала, не понимала, что он страдал. Он страдал, потому что не мог, потому что наверняка знал – не сможет, не сумеет как-нибудь доходчиво, начистоту, как самому близкому, родному человеку, объяснить Любе, почему ему сейчас не хочется затягивать её в извечное, тривиальное действо, неминучим водоворотом затеивающееся между мужчиной и женщиной. Всё это было, было у него и сколько раз. Но никогда ещё не занималось, огнём ли, сиянием ли, высокое, но живое, настоящее чувство, не вмещающееся ни в его сердце, ни в его разум. Как ей, молодой женщине, ждущей от жизни немудрёных, без всевозможных замысловатостей тропок к личному счастью и благополучию, сказать, чего он хочет на самом деле? Не мог и не хотел Лев сказать вот так сразу, с ходу, что хочется, что надо бы продлить, растянуть это сосущее, горько-сладкое состояние неопределённости, неотгаданности – неотгаданности её, этой самой Любы, его Любви желанной. Как ей сказать о выстраданном, чтобы не обидеть её, чтобы было красиво и свято для обоих? И чтобы она не засмеялась, не усомнилась, не сникла в сомнении, недоверии, а то и отчаянии.
Вечером Люба всё же пришла к нему. Она была отходчивой девушкой и хотела счастья. Глаза красные и тусклые, – ему понятно: переживала. Благодарный и повинный, легонечко прижал её к себе, долго гладил по маленькой тёплой голове и тоненькой, с хрупкими косточками шее, вдыхал запах её вьющихся волос. «Ладно, попробуем: пусть будет моей женой. Если, конечно, захочет». Он знал, что так, именно так надо было подумать и сделать, чтобы жить стало хотя бы немного легче, чтобы путь мало-помалу выпрямился и разъяснился.
Вся привилась к нему и целовала «искусно», «опытно». «Такая же, как все», – становилось невыносимо одиноко и печально Льву.
– Не любишь целоваться? – маленькими шаловливыми пальчиками пробегала она по его мускулистой руке. – Или ещё больно губы?
– Больно, – с очевидным неудовольствием едва слышно произнёс он и всмотрелся в её задорно засверкавшие, замечательные своей чёрной глубокостью глаза.
Но впервые разглядел в них какие-то рябинки, да в желтоватой ржавчинке. «Нечистая глубина».
Разозлился на себя:
– И чего надо человеку по имени Лев?
– Что?
– Правильно – «что»! – заставил он себя улыбнуться.
19
Пересиливая великие сомнения, через месяц Лев сделал предложение, и Люба сразу согласилась.
Это случилось светлым и свежим, как утро, вечером конца августа. Они прогуливались по бульвару набережной Ангары. Было ни жарко, ни прохладно, – благостно. Уравновешенно и тихо было и на земле, и в небе. С реки заботливо надувало влажно и пресно. На днях установилось ясное тёплое предосенье, довершающее недолгое сибирское лето, а потом – всевозможная непогодь покатится по земле, с дождями, с заморозками, с непременным густым тяжёлым снегом кануна октября. Сегодня же – и роскошное сияние Ангары, и проглаженное, искрасна высветленное зашедшим солнцем высокое небо, и бодрый речной воздух, и шелестение увядающих трав и листвы располагали к здоровому лёгкому дыханию, к течению и освежению чувств, к ожиданиям приятных волнений, к началу какой-то хорошей, правильной в долгости своей жизни. Река течёт, и жизнь течёт. Нужна ли остановка, возможна ли? – чувствовал выводами и вопросами Лев всем своим напряжённым и ждущим существом. И ему показалось – окружающее подталкивало, подзывало его, такого неустойчивого, осмотрительного, сказать то главное, над чем он тревожно и пугливо думал последнее время, как познакомился с Любой.
Нужно, наконец, что-то менять в своей жизни, не вечно сычом и неврастеником жить. И он торопливо перебирал в руке маленькие влажноватые пальчики своей нежданной Любови.
Они медленно и молчаливо шли вдоль длинного, замысловато изгибистого парапета, с преувеличенным интересом заглядывали через него на реку, на курлыкающих ненасытных чаек, на оборвавшиеся с деревьев сверкающие паутины. И снова, как когда-то в ресторане, оба примечали, что прохожие заглядываются в их сторону: интересной, наверное, находят парой.
Лев украдкой любовался Любой. А она тайком, с терпеливым поджиданием поглядывала на него, зачем-то мурлыча песенку.
Лев, представлялось ему, уже и кожей чувствовал, что она ждёт. Зачем-то покашливал в кулак. Что ж, пора бы и сказать, кажется.
Не сказал.
Да, пора! – через десять-пятнадцать шагов взбодрился он и даже зачем-то поправил галстук.
Но – смолчал. Вздохнул.
– Что, опять болит, Лёвушка? – спросила Люба, дотронувшись до его непроходящего правого бока.
– А? Что? Да, да.
Лев не сразу понял её вопрос. Усмехнулся, в сморщенности поведя щекой:
– Болит, болит. Сил нету терпеть.
Она что-то хотела сказать. Быть может, посочувствовать. Не успела.
Лев развернулся и резко остановился перед ней, положил руки на её низкие, чуть не по пояс ему приходившиеся, плечи и сказал насиленно просто, буднично, сверху глядя на темечко с завитком, стоявшим гребешком, а не в глаза её:
– Выходи-ка за меня замуж, Любовь ты моя маленькая, дева ты моя чистая и святая.
Она улыбчиво сморщила нос, мотнула головой, неловко, кутёнком, ткнулась лицом в его грудь. Он обнял её и с нежной покровительственностью погладил по спине. Ему стало легко и просветлённо, но печально. Просторнее сделалось в груди, точно бы махом отсёк разросшуюся опухоль или нарыв. Ему даже почудилось, что снова взошло и прыснулось калёно-бело, по-дневному, солнце. Прижмурился на небо: жить так жить! Он такой же человек, как все. Не правда ли? – спросила его душа у кого-то неведомого и невидимого, но, быть может, подслушивающего и подглядывающего.
– Маленькая? – спросила Люба, уже со строгой улыбкой взглянув на него и зачем-то приподнявшись на носочках. – Кто маленькая? Твоя любовь?
– Ты, ты маленькая, – понял он свою обмолвку и ему стало досадно, что так получилось в такие минуты.
– А-а-а.
– А ты что подумала?
– Ты мужик – ты и думай, – скороговоркой ответила она, но крепче привилась рукой к его руке, чуть не повиснув на ней. – А за чистую и святую – на этот раз спасибочки. Только в девы меня не записывай: кто услышит из моих знакомых – обхохочется.
Вот и всё, что надо человеку, – подумалось или почувствовалось механически, но о ком – о себе, о ней или вообще?
Познакомил с матерью. Полине Николаевне Люба, кажется, понравилась. По крайней мере мать была любезна и учтива с девушкой. Только погодя наедине сказала сыну:
– Дюймовочка, куколка. Таких только на руках и носить… в прямом смысле. Но-о-о, Лёвушка, родненький, как же без образования она? Прямо чудно в наше-то время. Пристроим в лицей, а потом – не поздно и в институт поступить. На заочное. Правильно?
Сын нахмурился, сдавленно закипел:
– Мне её образованность не нужна. Мне – она – нужна, – диктующе и строго произнёс он, но тут же осознал и смутился, что снова почему-то не называет мать мамой.
– Ты со мной странно разговариваешь, – повлажнело в глазах Полины Николаевны.
– М… м-мама… прости.
– Ты действительно любишь её?
– Любишь, не любишь – слова, слова!..
Оборвался, замолчал, не свил мысль, то ли не зная, то ли не желая уточнений. Смотрел в окно, густо-чёрное, заполночное, забрызганное дождём и затянутое туманистой пеленой. Ничего не разглядишь, только чахло, жёлтенько дрогнут в глуби города огни.
– Я хочу, Лёвушка, чтобы ты был счастливым.
Помолчав, мать прибавила, но ни вопросом, ни утверждением прозвучало:
– Может быть, слюбитесь.
Лев не отозвался, стоял, сутулясь, покусывая губу, и она прибавила ещё, невольно сорвавшись голосом:
– Стерпитесь.
Он повернулся к матери, взглянул в её глаза, забитые этой отражённой осенней сырой заоконной тьмой с бьющимися за жизнь огнями, и понял, что она ничуть не верит в его любовь, но страстно и необоримо верит во что-то другое в нём.

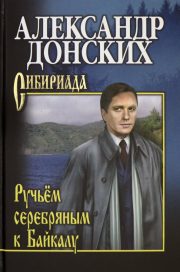
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!