Сойдя с дорожки, девушка пошла по высокой траве вверх по небольшому холму. На могиле ее отца стоял простой камень, на котором были выгравированы только его имя, даты рождения и смерти. Виктория опустилась на стоявшую неподалеку скамью. Прошло почти две недели с тех пор, как Рэндольф пытался убить ее. Ей пришлось несколько дней пролежать в постели, да и сейчас она все еще была слаба. Вынув из сумочки письмо, она мгновение рассматривала свое имя, написанное витиеватым, размашистым почерком отца, затем разорвала конверт и начала читать.
Моя любимая дочь Виктория!
Когда прочтешь это письмо, ты будешь уже взрослой. Не хочу говорить тебе правду до тех пор, пока ты не станешь совершеннолетней. Я солгал тебе насчет смерти матери. Она умерла не от лихорадки, как ты всегда думала, а лишь четыре года спустя от последствий кори.
Твоя мать была любовью всей моей жизни, моей отрадой и опорой. Мы, Бредоны, наделены множеством талантов. Мы склонны к тому, чтобы наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Другая, темная сторона этого дара – это склонность к депрессиям и зависимостям. Я был человеком довольно жизнерадостным, однако периодически впадал в меланхолию, меня одолевало пагубное влечение к алкоголю и опиуму. Я пишу все это в прошедшем времени, поскольку, вероятно, жить мне осталось лишь несколько дней.
Любовь к твоей матери спасла меня от моей темной стороны. Твоя мать любила жизнь, не испытывая потребности в опьянении, как мы, Бредоны. Она во всем видела чудеса – в природе, в самых простых вещах, вроде предмета или луча света, пробившегося в комнату, – и она фиксировала это в своих картинах. До тех пор мне были ведомы лишь чудеса науки и мрачное очарование смерти. Твое рождение было величайшим чудом из всех, и если бы не было тебя, вероятно, после ее смерти я окончательно погрузился бы в пучину зависимостей.
В конце лета 1891 года мы поехали на каникулы в Швейцарию, где вы обе, ты и твоя мать, заболели корью. Вы были уже на пути к выздоровлению, когда твоей матери захотелось пойти на прогулку порисовать горы. Я был против, но ей так хотелось выйти на природу. Ей хотелось наконец снова рисовать, это было для нее столь же важно, как дышать. И хотя прекрасно осознавал опасность, я в конце концов уступил – моя величайшая врачебная ошибка. Болезнь твоей матери вернулась, последствием стал менингит. Несколько дней она была на грани жизни и смерти. Она выжила, но ценой потери рассудка.
Я должен был поместить ее в частный санаторий, где за ней ухаживали бы должным образом, соответствующим ее состоянию, однако не смог расстаться с ней. Вместо этого я поселил ее с санитаркой в отдельной комнате в нашей квартире неподалеку от Холланд-парка, спрятав от тебя и от слуг. Всему миру и тебе я сказал, что она умерла, и в некотором смысле так это и было. Отчетливее всего для меня это было тогда, когда она начинала рисовать. Она занималась этим часами, самозабвенно, но получались лишь детские каракули. Я больше не мог видеть ее картин, в которых было так много ее истинной, и велел снять их со стен и спрятать. Когда ты станешь совершеннолетней, тебе их передадут.
Я знаю, что погрешил против тебя не только в том, что лгал тебе. Я увидел, что ты любишь рисовать, и запретил тебе заниматься этим – ты слишком сильно напоминала мне мать.
А затем настал тот день, когда, к несчастью, твоя няня и санитарка одновременно отлучились из квартиры у Холланд-парка, а твоя мать случайно устроила пожар. И даже если во время пожара она тебя вряд ли узнала, я уверен, что это сделала ее душа, что придало ей сил и мужества спасти тебя. Я понял, что моя тоска чуть не стала причиной ее и твоей смерти. Мне было стыдно, и я солгал тебе относительно причин пожара, сказал, что сам спас тебя. Из чувства стыда же я поддерживал эту ложь долгие годы. Моим поступкам не может быть оправдания, я могу лишь молить тебя о прощении.
Когда спустя два года после пожара твоя мать умерла от гриппа в санатории, я был рядом с ней. Конечно, ты этого не помнишь, однако она очень любила тебя.
Ты не только внешне похожа на свою мать, ты унаследовала все ее хорошие качества, и я уверен, что они будут с тобой на протяжении всей твоей жизни. Я очень рад, что видел, как ты взрослеешь, это было моим величайшим счастьем, хоть я и не заслуживал этого.
Дочитав письмо, Виктория некоторое время тихо сидела на лавочке. Снова моросил дождь, хотя из-за туч проглядывало солнце. Теперь, после прочтения письма отца, она лучше понимала его. Девушка была тронута тем, что он так страдал все эти годы из-за собственной лжи. Нет, он был не тем героем, которого она так долго видела в нем, харизматичным блестящим ученым. Он был человеком, со своими ошибками, слабостями и пропастями, у него была светлая, но была и темная сторона.
Виктория подошла к отцовской могиле. Изорвав письмо, она развеяла его по ветру. Трава и цветы сверкали на солнце, и клочки бумаги напоминали лепестки. Она не совсем еще простила отца, однако снова чувствовала близость к нему и знала, что он любил ее. Ядовитые слова сэра Френсиса больше не имели власти над ней.
Виктория нашла Хопкинса в столовой дома Констанс и Луиса. Они предложили им пожить у них до окончания ремонта в квартире рядом с Грин-парком. Сумма страховки от пожара, вероятно, поможет покрыть бóльшую часть расходов, но после пережитого Виктории не хотелось думать о плохом.
На Хопкинсе были белые перчатки, и он как раз проверял линейкой расстояние между фарфоровыми тарелками, хрустальными бокалами и серебряными приборами. Стол был украшен стоявшим по центру подсвечником и большим букетом орхидей.
– Хопкинс, объясните, что это вы здесь делаете? – удивленно поинтересовалась Виктория. – Накрывать на стол – задача дворецкого лорда и леди Хогарт. Или вы намерены оставить меня и занять место Дженкинса?
– Шутите, мисс Виктория! – Хопкинс обернулся к девушке. Выглядел он взволнованным. – Я позволю себе устроить сегодня вечером небольшой праздник, поскольку я заключил контракт: рецепты миссис Эллингем выйдут книгой. С отличным гонораром, если позволите заметить. Настолько отличным, что на эти деньги мы сможем полностью отремонтировать квартиру. И, побеседовав предварительно с леди Хогарт, я позволил себе сделать вам подарок, – он указал на большую, обернутую шелковой бумагой плоскую коробку, лежавшую на стуле.
Виктория с любопытством развернула упаковку и открыла коробку. Внутри оказалось вечернее платье, которое ей так понравилось на показе мод в «Хэрродсе».
– О, Хопкинс, большое спасибо… – Виктория ослепительно улыбнулась ему. – Сегодня вечером я надену его.
Хопкинс сосредоточился на хрустальном бокале, поправил его.
– Среди гостей будет и мистер Райдер. Я предположил, что вы возражать не будете.
Глубокое чувство счастья разлилось волной по всему телу Виктории. Она не видела Джереми несколько дней и только теперь осознала, насколько сильно скучала по нему.
– Я буду очень рада видеть мистера Райдера, – с улыбкой отозвалась она.
Послесловие
Самое чудесное в написании исторического романа – то, что у писателя остается свобода выбора, в отличие от, например, документальной книги или газетной статьи. Поэтому я позволила себе отклониться от исторической реальности там, где считала необходимым в связи с драматургией сюжета или же ради художественной выразительности.
Весной 2006 года я была в Бристоле. В районе Клифтон в одном доме я наткнулась на юбилейный значок суфражистки Энни Кенни. Мне стало любопытно, и я отправилась в ближайшую библиотеку, где узнала, что в Бристоле существовало очень активное движение суфражисток. Участие Виктории в борьбе за права женщин можно объяснить именно этим.
Собрание суфражисток в Кокстон-холле 13 февраля 1907 года – это исторический факт, равно как и последующий марш борцов за избирательные права женщин к зданию парламента. Конные полицейские пытались разогнать демонстрацию и действовали при этом очень бесцеремонно, если не сказать грубо. Поводом для демонстрации и вообще для радикализации Женского социально-политического союза (ЖСПС) под руководством Эммелин Панкхёрст стало нарушение либеральной партией предвыборных обещаний. В отличие от обещанного в ходе избирательной кампании, либералы, придя к власти в 1906 году под руководством Генри Кемпбелла-Беннермана, не ввели избирательное право для женщин.
По всей видимости, Эммелин Панкхёрст была харизматичной и очень сильной личностью, которая, кроме своих дочерей Кристабель, Сильвии и Аделы, не терпела в руководстве ЖСПС других женщин. В основном в ЖСПС входили выходцы из мещан. Энни Кенни была единственной женщиной из рабочей семьи, занявшей в ЖСПС важную должность. Она была дружна с Кристабель Панкхёрст. В 1905 и 1906 годах в Манчестере она пыталась заставить Уинстона Черчилля – тогда он был видным депутатом от партии либералов – сделать заявление по поводу избирательного права для женщин. Оба раза ее силой вывели из зала. В ноябре 1909 года в Бристоле суфражистка Тереза Гарнетт ударила Уинстона Черчилля плетью для собак. Цветами суфражисток стали лиловый, белый и зеленый – чуть позже, чем об этом говорится в моей книге.
Дерби в Эпсоме, знаменитые конные бега, проходят в июне и июле, а не весной. В 1913 году суфражистка по имени Эмили Уилдинг Дейвисон предприняла попытку прикрепить во время забега к сбруе Энмера, коня Георга V, шарф цветов суфражисток. Она попала под копыта лошади и умерла спустя несколько дней.
С 1907 года и вплоть до начала Первой мировой войны, когда Эммелин Панкхёрст решила прекратить воинственные акции, чтобы поддержать воюющую страну, выступления суфражисток становились все более радикальными. В 1912–1913 годах суфражистки избрали новую тактику – поджоги, в это время они посылали зажигательные смеси премьер-министру Герберту Генри Асквиту и казначею Ллойду Джорджу. В 1914 году суфражистки осуществили поджоги и порчу произведений искусства – например, в Британия-Пэр в Грейт-Ярмуте в графстве Норфолк. То, что сэр Артур Стенхоуп – мой комиссар Скотленд-Ярда – подозревает суфражисток в убийстве сэра Френсиса Сандерленда, связано именно с этим. Однако оба они – фигуры вымышленные. Комиссара в ранге баронета в начале ХХ века в Скотленд-Ярде не было. В то время комиссаров, как правило, только по завершении срока службы возводили в дворянское звание.

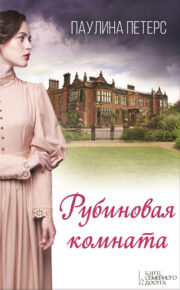
"Рубиновая комната" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рубиновая комната". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рубиновая комната" друзьям в соцсетях.