Но в эту пятницу Катрин ни за что не покинула бы квартиру (то есть кровать и Интернет) и не столкнулась бы лицом к лицу с вестниками холодного антициклона, если бы не суровая необходимость: ее позвали в гости родители. А приглашение родителей не оставляло выбора — его надо было принимать. Один-единственный отказ принять приглашение родителей поставил бы под сомнение всю их двадцатидевятилетнюю воспитательную работу. Супруги Шульмайстер-Хофмайстер уже не смогли бы ответить на вопрос, для чего они живут (для Катрин). Их экзистенциальный вакуум по своим масштабам превзошел бы экзистенциальный вакуум, который разверзся бы вокруг окулиста доктора Харлиха, если бы тот согласился повысить Катрин жалованье.
Приглашение родителей отравляло все настроение уже одним только ожиданием связанных с ним мрачных мыслей и переживаний. Оно означало совокупность семи резко отрицательных моментов, следующих один за другим в порядке нарастания негатива (причем убойная сила каждого момента была равна минус десяти градусам по Цельсию в эпицентре холодного антициклона). Во-первых, родители собирались говорить с ней о Рождестве. Во-вторых, они собирались говорить с ней о сочельнике, совпадавшем с днем ее рождения. В-третьих, они собирались говорить с ней о сочельнике, совпадавшем не просто с днем ее рождения, а с ее тридцатым по счету днем рождения. В-четвертых (мать): «Золотце, мы хотим устроить тебе в сочельник такой день рождения, который ты никогда не забудешь. Любое твое желание будет выполнено. Об этом мы и хотели с тобой поговорить». В-пятых (отец): «Заяц, в этот раз мы будем готовиться к Рождеству со стратегическим размахом. Праздновать так праздновать! Надо все как следует обсудить». В-шестых (мать): «Золотце, ты уже не ребенок, тебе исполняется тридцать лет. Это особая дата. В этом возрасте надо уже потихоньку задумываться о будущем. Об этом мы и хотели с тобой поговорить». В-седьмых (отец): «Заяц, мама переживает за тебя. Ты же знаешь, как она тебя любит. Она хочет, чтобы ты была счастлива. Надо наконец серьезно поговорить об этом…»
Этому родительскому экстракту предрождественских депрессивных тем, якобы подлежащих обсуждению, противостоял один-единственный просвет — ответ Катрин на вопрос (в-восьмых): «Золотце, чего тебе хочется?» «Покоя и свободы от родительской любви», — вот чего ей хотелось, но как им это объяснить?
— Мама, папа, я должна вам кое-что сказать… — начала Катрин через час, после супа с манными клецками, седла косули с крокетами из дичи, но без брусники (она слегка заплесневела) и тридцати свежих фотографий семьи тетушки Хелли.
Тетушка Хелли была самой счастливой тетушкой в мире, потому что все три ее дочери имели мужество не только выглядеть так, как они выглядели, но еще и регулярно фотографироваться. Кроме того, все они были моложе Катрин, но уже замужем — за мужчинами, которые ничуть не уступали им по мужеству и разделяли их героическую готовность выглядеть так, как они выглядели, и при этом регулярно фотографироваться. «Их мужья, пожалуй, даже еще смелее, чем они», — подумала Катрин, рассматривая фотографии.
Во всяком случае, три замужние дочери тетушки Хелли, проникнутые радостным сознанием своего почетного долга перед семьей, к безмерному счастью тетушки, каждый месяц производили на свет как минимум одного ребенка, а иногда даже двойню. Катрин, правда, не считала их поголовье, но она навещала родителей в среднем три раза в месяц и во время каждого третьего визита получала на десерт новые фотографии новых младенцев трех дочерей тетушки Хелли. «А детишки и вообще — самые смелые из всего семейства тетушки Хелли», — подумала Катрин и отложила фотографии в сторону.
— Я должна вам кое-что сказать… — произнесла она, прежде чем была поднята тема Рождества. Она положила специальный десертный прибор для «мавра в рубашке»[8] на тарелку, между половиной «мавра» и тремя четвертями «рубашки». — Я в этот сочельник не смогу к вам прийти. Я буду не одна…
— Так приводи его с собой, Заяц! Мы будем ему рады, ты же знаешь. Пусть празднует с нами. Праздновать так праздновать! — обрадовался отец.
— У тебя с ним серьезно, Золотце? — спросила мать, поставив локти на стол и так крепко прижав кулак к кулаку, что ее лицо покраснело от напряжения.
— У меня собака… — нерешительно произнесла Катрин.
Десять минут в комнате царило гробовое молчание. Эрнестина Шульмайстер-Хофмайстер молитвенно сложила руки и, казалось, молила Бога об отпущении грехов, тяжесть которых она до этого момента, похоже, недооценивала. У Рудольфа Шульмайстер-Хофмайстера расширились зрачки, а голова начала ритмично подергиваться, как будто он мысленно дирижировал трагический финал некой увертюры.
— Это не моя собака, — пояснила Катрин в тот момент, когда уже трудно было поверить, что кто-то еще что-то скажет.
Ее пояснение было для родителей так же малоутешительно, как заявление преступника, ограбившего банк, о том, что это всего лишь маленький банк. Уже одно только слово «собака», произнесенное в доме Шульмайстер-Хофмайстеров было равносильно государственной измене. Катрин знала, какую роковую роль сыграл один из представителей данного вида животных в жизни ее отца. И до этого вечера она исправно вносила свою минимальную лепту в дело солидарности с отцом, всю жизнь испытывая отвращение к собакам и избегая не только их самих, но даже упоминания их в разговоре.
Бывают дни, в которые решается будущее человека. В сущности, оно решается каждый день. Вернее, нет — каждый день решается не будущее, а настоящее. Во всяком случае, оно решается для будущего за счет прошлого. Как бы то ни было, будущее Рудольфа Хофмайстера должно было решиться двадцать седьмого июня. День этот выдался солнечным и теплым. Молодой Хофмайстер ждал его с самого начала учебы в коммерческом училище.
Отец Катрин продавал разные вещи. Не свои — у него тогда ничего не было. Он продавал вещи, которые ему не принадлежали, и получал за это немного денег. Он был (и остался) торговым представителем. Он представлял все, что только можно представлять, — шнурки для ботинок, газетные киоски, средства от насекомых, кокосовые драже с ромовой начинкой, журналы для пенсионеров, клапаны низкого давления. Он ходил от двери к двери, большинство из которых не открывались. Если ему удавалось схватить чью-либо руку, он ее уже не выпускал.
Главная задача состояла в том, чтобы человек увидел его лицо: тогда он видел и его рот, а потом и то, что находилось выше. Усы Рудольфа Хофмайстера были для взглядов клиентов то же, что паутина для мух. Это были самые тоненькие, жиденькие и невесомые усы, перед которыми когда-либо распахивалась дверь потенциальных клиентов, грозя сдуть сквозняком эту важную деталь физиономии. Люди сразу видели: этому человеку катастрофически не хватает протеинов. Надо срочно у него что-нибудь купить. К сожалению, его усы слишком редко представали взорам сердобольных покупателей.
Риторика была делом второстепенным. Обычно Хофмайстер начинал так:
— Приветствую вас! Хофмайстер. Я пришел, чтобы украсть у вас одну минуту вашей жизни.
Чаще всего ему удавалось украсть всего несколько секунд. Но это были издержки профессии.
У Хофмайстера была заветная мечта — разбогатеть в одночасье. (Он никогда и не утверждал, что это очень уж оригинальная мечта.) И вот, двадцать седьмого июня его мечта должна была наконец осуществиться. В этот день Хофмайстер собирался продать тысячу восемьсот автоматических установок для сушки белья фирмы «Ветникс». Ему не хватало только подписи коммерческого директора крупного производителя стиральных машин «Мультоклин».
Относительно автоматических установок для сушки белья фирмы «Ветникс» следует заметить, что продукция эта была еще очень далека от совершенства. Сушилки были в два раза больше и в три раза тяжелее, чем стиральные машины, а белье сохло в них в три раза дольше, чем просто на веревке. Фирма «Ветникс», которая рассчитывала продавать максимум пять установок в год, полгода безуспешно искала торгового агента и, когда нашла Хофмайстера, предложила ему шесть процентов с продажи каждой установки.
Как Хофмайстеру удалось продать «Мультоклину» тысячу восемьсот штук? Очень просто: ему удалось привлечь внимание одного рядового сотрудника фирмы к своим усикам, и прежде чем тот переключил это внимание на другой объект, Хофмайстер успел произнести следующее:
— Приветствую вас! Хофмайстер. Я пришел, чтобы украсть у вас одну минуту вашей жизни. Стирать белье может каждый. Сушить белье можем только мы. Фирма «Ветникс» — залог вашего успеха. Доверьте нам ваше белье! Сушить так сушить!
Сотрудник выслушал его и выразил готовность предложить шефу взять напрокат одну установку для пробы. На следующий день шеф лично позвонил Хофмайстеру и спросил:
— Это вы делаете сушилки для белья?
— Нет, я только продаю их, — ответил Хофмайстер.
— И они работают?
— Я никогда не стал бы рекламировать технику, которая не работает, — солгал Хофмайстер.
— Хорошо, мы покупаем две тысячи установок.
— Но у нас столько нет!.. — пролепетал Хофмайстер в панике, и у него от волнения сразу выпало как минимум три волоска из усов, то есть десятая часть всего волосяного покрова над верхней губой.
— Ладно, тогда тысячу восемьсот! — сказал шеф. — Приходите завтра, и я подпишу бумаги. Привезите с собой одну установку. И наденьте свой лучший воскресный костюм — у нас будет телевидение: будем подписывать договор в прямом эфире. Наши конкуренты зарыдают от зависти.
«Завтра» было вышеупомянутое двадцать седьмое июня, день, когда должно было решиться будущее Хофмайстера. В «Ветниксе» уже охлаждали шампанское. Первая установка для сушки белья была доставлена в «Мультоклин». («Остальные тысячу семьсот девяносто девять уж как-нибудь соберем за пару недель!» — решило руководство «Ветникса».) Молодой Хофмайстер облачился в новый костюм сизого цвета из лучшего магазина мужской одежды. До процедуры подписания договора перед работающей телекамерой оставалось десять минут. Хофмайстер, заблаговременно прибывший к зданию «Мультоклина», уселся на скамейке в сквере и принялся мысленно репетировать рукопожатие миллионера. При этом он время от времени с воодушевлением произносил вслух: «Да-да, безусловно!» — и для большей убедительности похлопывал себя ладонью по ляжке. Этот жест, судя по всему, был неверно истолкован собакой, неожиданно выскочившей из кустов. Она явно приняла его за команду «Ко мне!».

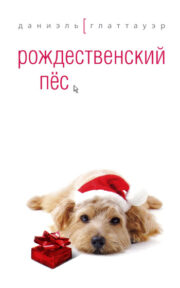
"Рождественский пёс" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рождественский пёс". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рождественский пёс" друзьям в соцсетях.