Министры согласились со мной, но в то же время указали на опасность, которой угрожает нашей стране возможная победа испанцев в Нидерландах — слишком уж близко от Голландии до английских берегов. Нельзя забывать, что Филипп Испанский — лютый враг Британского королевства.
Я подумала, что, возможно, удастся договориться о совместных действиях с французами. Ведь победа испанцев тоже не в их интересах.
Мои отношения с парижским двором в последнее время складывались неважно. Французы не забыли обиду, которую я нанесла герцогу Анжуйскому. Королева-мать наконец поняла, что я никогда всерьез не собиралась брать ее сына в мужья, а всего лишь оттягивала время.
Внутреннее положение во французском королевстве после смерти наследника престола еще более усложнилось. У Генриха III детей не было, а ближайшим родственником короля являлся Генрих Наваррский, приверженец гугенотской веры.
Я не на шутку встревожилась, когда голландцы предложили Генриху III стать сюзереном Нидерландов в обмен на военную помощь. Одна мысль о том, что Нидерланды могут оказаться во власти французской короны, привела всех нас в панику. Это было почти столь же опасно, как победа испанцев. Слава Богу, Генрих отказался, и мы вздохнули с облегчением.
Не все мои советники склоняли меня к войне. Некоторые из них, в том числе Уолсингэм, считали, что в эту кашу лезть не следует. Победы не добиться, так лучше не тратить денег попусту, а укрепить оборону своей страны. Нужно как можно быстрее строить флот, лишь он способен превратить королевство в неприступную крепость.
Я всей душой была согласна с этим мнением и говорила, что Генрих III хил и недужен, как и его уже умершие братья. Род Валуа обречен. Если король умрет, во Франции все переменится, ибо на престол взойдет гугенот.
Лазутчики Уолсингэма слали вести одна тревожней другой. Герцог де Гиз заключил союз с Филиппом Испанским. Цель сговора — помешать Генриху Наваррскому стать французским королем, а кроме того, очистить Францию от гугенотов. Испанцы хотели превратить французское королевство в чисто католическую державу. Я знала: Филипп не угомонится, пока не подомнет под себя всю Европу.
Как всегда, столкнувшись со сложной проблемой, я предпочитала тянуть время.
Нужно было как следует пораскинуть мозгами, дабы выбрать наиболее разумный курс действий.
Но счет смертям в тот год еще не был окончен. Бедный Роберт — мне было очень его жалко, ведь он так гордился своим сыном. Я уже раскаивалась, что устроила Роберту выволочку за переговоры по поводу возможного брака мальчика с Арабеллой Стюарт, в конце концов, какой отец не желает добра своим детям!
Роберт явился ко мне и сказал, что сын его болен и он просит позволения на время удалиться от двора. Я немедленно отпустила его, сказав, что буду молиться за выздоровление мальчугана.
Должно быть, у постели умирающего мальчика сидели рядом отец и мать. Даже ненавистную Леттис в эти дни мне было жаль. Но у нее, в конце концов, были и другие дети, Роберт же лишился своего единственного сына, во всяком случае, единственного законнорожденного.
Я думала о страданиях Роберта все время. Мне пришло в голову, что, несмотря на неутомимую изобретательность моего любимца, все его самые заветные планы неизменно заканчиваются крахом. Он хотел стать моим супругом и возложить на свою голову корону, однако судьба распорядилась иначе. Не позволила я Роберту возвыситься и за счет детей. Зато я сделала его самым могущественным, самым богатым дворянином королевства. Правда, сам Роберт вовсе не считал себя богатым. Он всегда тратил больше, чем мог себе позволить, обожал всевозможные излишества, не мог жить без расточительства, да и содержание всех этих великолепных дворцов и замков стоило огромных денег.
Я не знаю человека, обладавшего большим количеством недостатков. Но сейчас я скорбела вместе с ним.
Мальчика похоронили в Уорике, в часовне Бошан.
Я вызвала Роберта, и когда он явился, велела всем остальным уйти.
— Я думаю, будет лучше, если мы погорюем с тобой вдвоем, — сказала я.
Роберт опустился на низкий табурет возле моих ног, прислонился головой к моим коленям и молча зарыдал. Я гладила его по кудрявым волосам и тоже плакала.
— Говори, если хочешь, Робин, — сказала я. — А если не хочешь — молчи.
Но он хотел говорить. И стал рассказывать мне, каким умным и одаренным был его сын. Только вот крепким здоровьем никогда не отличался. Просто поразительно, что у такого могучего отца родился хилый и болезненный сын, но у природы свои законы. Роберт рассказывал мне, как тяжело мальчик болел, как слабел после каждого приступа.
— Что ж, каждый из нас должен нести свой крест, — сказала я. — Тебе, по крайней мере, есть чем утешиться. Произошла страшная трагедия, но время залечивает раны.
Он поблагодарил меня за сочувствие, сказал, что одна я способна исцелить его душу. Я же ответила, что всегда буду рядом с ним, когда судьба от него отвернется.
Роберт поцеловал мою руку, мы были очень близки в этот момент. Оба понимали, что наша любовь — самое драгоценное сокровище на свете, и положить ей конец может только смерть.
— Мать малыша просто обезумела от горя, — сказал Роберт.
— Естественно, на то она и мать.
— И еще ее очень тяготит, что ты на нее гневаешься. Если бы ты позволила ей вернуться ко двору…
Тут мое размягчившееся сердце сразу же ожесточилось.
— Ну уж нет, — холодно и твердо отрезала я. — Этой особе при моем дворе делать нечего.
Мы оба замолчали, ощущение близости исчезло. Роберт все испортил, пустив в наш Эдем змею.
Берли принес мне политический памфлет, на который, с его точки зрения, я должна была обратить внимание.
То был весьма приятный вечер, устроенный по печальному поводу — в память об умерших друзьях, герцоге Анжуйском и Вильгельме Оранском. Я надела великолепное черное бархатное платье, украшенное серебряной вышивкой и жемчугом, на волосы набросила шаль, сплетенную из тончайших серебряных нитей. Она была похожа на паутину, и мои белошвейки потратили множество дней, чтобы изготовить этот шедевр. Мое жабо искрилось золотыми и серебряными звездами, и я была весьма довольна собой, чувствуя, что наряд мне к лицу.
Мысли мои были заняты нидерландским вопросом. Мнения членов Совета разделились. Берли, например, был уверен, что, получив от Генриха III отказ, голландцы должны теперь предложить нидерландскую корону мне.
Я размышляла над этой захватывающей перспективой, когда Берли спросил, видела ли я гнусный пасквиль, который ходит по рукам придворных.
Я ответила, что впервые слышу, и поинтересовалась, что это за пасквиль.
Берли сказал, что памфлет называется «Копия письма, написанного кембриджским магистром искусств», и речь в нем идет о злодеяниях некоего дворянина.
— Графа Лестера? — догадалась я.
Берли кивнул.
— Про Лестера вечно пишут всякие гадости, — пожала я плечами. — Ему слишком многие завидуют. Кто автор?
— Памфлет анонимный, но говорят, что написал его некий иезуит, которого зовут Роберт Парсон.
— Я слышала это имя. Парсон один из тех, кто хочет во что бы то ни стало восстановить в Англии католицизм и готов ради достижения своих целей на любые мерзости — впрочем, как большинство его единоверцев. Англия была бы куда более счастливой страной без всей этой публики. Так что говорится в памфлете?
— Если вашему величеству угодно, я могу дать вам эту книжицу, но предупреждаю: чтение не из приятных.
— Стало быть, там упоминаюсь и я?
Берли молчал.
— Немедленно дайте мне памфлет, — приказала я.
Так ко мне попал самый злобный, самый отвратительный документ из всех, какие только мне доводилось видеть в своей жизни. Обвинения были настолько абсурдны, что воспринимать их всерьез было бы дикостью, однако в море клеветы были разбросаны островки правдоподобия. Иезуиту не хватило ума; если б он ограничился более или менее проверенными слухами, тогда сумел бы нанести мощный удар не только по репутации Лестера, но и по самой королеве. Злоба лишь снижала эффект.
Каждая страница памфлета буквально сочилась ядом. Жизненный путь Роберта был и так достаточно извилист, автор мог бы обойтись и без вздорной клеветы. Несмотря на гнев и тревогу, с которыми я читала эти страницы, временами мне хотелось улыбнуться — зависть Парсона к фавориту была явной и несомненной. Не слишком подобающее чувство для человека, посвятившего себя служению Господу.
Роберта в памфлете называли Медведем. Я с первых же слов поняла, о ком идет речь: «Всем известно, что Медведь больше всего любит свое брюхо…» Какая чушь, подумала я. Конечно, Роберт не дурак поесть, но куда больше он любит славу, власть, богатство. Ведома ему любовь и иного рода — к сыну, к жене — а главное, ко мне. «Дворянское происхождение этого зверя насчитывает всего два поколения, причем каждое из них запятнано плахой». Это, допустим, верно, но разве Роберт виноват в том, что мой дед сделал из его деда козла отпущения? Отец Роберта действительно угодил на эшафот из-за собственного честолюбия, но в этом Роберт опять-таки не виноват. Мало ли кто умер на плахе? Моя собственная мать, множество невинных людей. Нет, этот иезуит определенно дурак! «Он участвовал в заговоре против детей короля Генри, когда они были еще детьми», — говорилось далее в пасквиле. Тоже вроде бы верно, но я-то знала, что Роберт и в ранние годы был предан мне душой и телом. Разве не продал он свои земли, чтобы у меня были средства для борьбы за престол?
Дальше мне читать не захотелось. Я предчувствовала, что от Парсона уважения к королевскому величеству ожидать не приходится. И оказалась права. Покончив с честолюбием Лестера, автор взялся за отношения между королевой и фаворитом. Вновь всплыли все мерзости, вся злонамеренная хула — и тайные роды, и умерщвленные либо отданные на сторону младенцы. Чем дальше я читала, тем больше злилась.

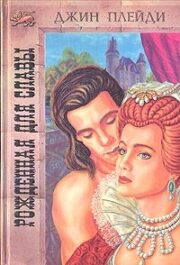
"Рожденная для славы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рожденная для славы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рожденная для славы" друзьям в соцсетях.