ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА I
Незаметно минуло десятилетие, наступил 1812 год, а с ним пришла пора заката «империи славы», но заката столь яркого, что его багровый свет можно было легко перепутать с золотым сиянием полуденного светила.
Предчувствие конца зачастую бывает страшнее, чем сам конец; это как нельзя лучше понимали люди, посвятившие жизнь, отдавшие всю свою душу делу создания новой великой Франции, чьи ослепленные безумной верою взоры по-прежнему обращались в сторону того, кто еще при жизни был признан величайшим гением человечества.
Но Господом всемогущим может называться лишь тот единственный, что вознесся на Небо, правителю же земному суждено оставаться человеком, и если цель, которую он поставил перед собою, чересчур велика, он способен растерять свои силы и устать прежде, чем ее достигнет.
Стремление Франции к всемирному владычеству сделало войну бесконечной – она длилась уже пятнадцать лет.
Постепенно усиливался ропот народов завоеванной Европы, победные крики «Виват Император!» заглушал плач французских женщин, чьи возлюбленные, мужья, сыновья, братья гибли на чужой земле, и легендарная наполеоновская армия, утомленная бесчисленными сражениями, перестала быть непобедимой.
В один из первых дней апреля 1812 года Элиана Флери сидела в гостиной своего дома в Маре и беседовала со старшим сыном.
По-весеннему припекало солнце, и легкий ветер шевелил первые листочки на ветках растущих в палисаднике деревьев, похожие на лоскутки светло-зеленого шелка.
Обстановка оклеенной кремовыми обоями комнаты была изящной и простой: мебель желтоватого гваделупского лавра, несколько севрских ваз, алебастровые светильники на медных ножках и два прекрасных гобелена с изображением пасторальных сцен.
Ролану Флери исполнилось восемнадцать лет, он превратился в высокого, стройного молодого человека с чудесными карими глазами, взгляд которых то горел пламенем по-юношески возвышенных стремлений, то становился притягательно меланхоличным.
Глядя на него, Элиана испытывала не только гордость, но и болезненную тревогу: женщине казалось, что ее мальчик гораздо более беззащитен перед жизнью, чем думают окружающие и он сам, ибо Ролан унаследовал благородство отца и мягкость натуры матери.
Элиана напрасно боялась: годы, проведенные в казенном заведении, нисколько не испортили юношу. Он сохранил и чистоту помыслов, и трогательную привязанность к близким.
– Понимаешь, мама, – говорил Ролан, беря ее за руки почтительным и в то же время полным любви, истинно сыновним жестом, – я не знаю, что со мной происходит, но меня все время куда-то влечет. Я чувствую, что создан для чего-то необыкновенного, и не успокоюсь, пока не найду свой путь. Это не честолюбие, нет, просто волнение души, зов мечты и сердца.
Женщина внимательно слушала сына, не произнося ни слова.
К сорока годам Элиана оставалась еще очень красивой, возможно, благодаря лучезарным глазам и нежной улыбке.
Конечно, что-то в ней изменилось, она утратила многое, чем обладала в пору ранней молодости, но зато в ее облике появилась магия зрелости, особая элегантность женщины среднего возраста, вооруженной духовным и чувственным опытом, способной понимать и видеть то, чего никогда не увидит и не поймет наивная самовлюбленная юность.
Она стала более сдержанной и строгой: ведь на протяжении многих лет ей приходилось вести дом, распоряжаться расходами и фактически в одиночку воспитывать пятерых детей.
Видя сияющий взгляд сына, женщина тайком вздохнула. Сколько их было, юных и пылких, с огнем в глазах и безумной отвагою в сердце! А потом этот огонь угасал на полях сражений.
– Прости за откровенность, сынок, но я за тебя боюсь! К сожалению или к счастью, ты знаешь жизнь лишь по рассказам и книгам. Поверь, война – она не для романтиков и мечтателей. Думаю, ты будешь сильно разочарован и еще…
Она умолкла, не решаясь произнести страшную фразу.
Одни преклонялись перед культом силы, вторых ослеплял блеск золота, третьи грезили о славе, и все гибли, гибли, гибли…
– Но ведь отец воевал столько лет и остался прежним – не сломился, не утратил силы духа и своей веры!
– Да, – медленно произнесла Элиана, – твой отец полжизни провел на войне, а я – в ожидании и тревоге. Но он пошел служить в более зрелом возрасте, уже многое пережив, и потом отец с самого начала представлял, что такое война, и не питал никаких иллюзий. Он поступил на военную службу не ради того, чтобы совершать подвиги, а просто потому, что не видел иного способа обеспечить семью. Революция отняла у нас все, мы были очень бедны. И ты не прав, – добавила она, помолчав, – если думаешь, что твой отец нисколько не изменился за эти годы.
Элиана вспомнила события последнего десятилетия. После Аустерлица Бернара произвели в полковники, затем он был легко ранен в сражении при Фридланде (чему был даже рад, потому что получил внеочередной отпуск), а в 1808 году, находясь в Испании, попал в плен вместе с восемнадцатью тысячами других французов и вернулся только через полгода, измученный и больной.
Ему никогда не было свойственно самодовольство победителя или озлобленность побежденного, но теперь в его манерах начала проскальзывать раздражительность, нервозность.
«Боюсь, это никогда не кончится, – устало говорил он Элиане. – Знаешь, ведь я живу в окружении призраков погибших соратников и друзей. Каждый второй из тех, с кем мне довелось сражаться бок о бок, – уже мертв».
Дома Бернар не пил ничего, кроме традиционного бокала вина перед обедом или ужином, но как-то признался Элиане, что на войне ему случается много пить, – перед сражением, а особенно – после.
«Иначе я все время буду вспоминать лица солдат – крестьянских парней и молодых офицеров – выпускников военных школ. Им бы радоваться жизни, влюбляться, а они падают мертвыми, как трава под орудием косаря», – рассказывал он жене.
Сейчас Бернар не мог уйти в отставку: он был одним из опытнейших офицеров французской армии, ветераном имперских войн, и командование дорожило им. К тому же он, как всякий корсиканец, считал, что судьбу нужно испытывать до конца.
Элиана наклонилась к сыну и поцеловала его в лоб.
– Что поделаешь, сынок! Ваше дело – следовать велению долга, а наше – молиться, чтобы судьба была милостива к вам!
Тревожную атмосферу их беседы нарушило появление Адели; она вошла в комнату и приблизилась к матери и брату, держа в руках какой-то конверт.
Это была хорошенькая девушка с васильковыми глазами и рыжевато-каштановыми волосами. Густые волнистые волосы, обрамлявшие ослепительно белое лицо, украшали ее облик так, как украшает позолота тончайший китайский фарфор.
Уголки ее губ были приподняты, отчего на щеках образовались ямочки, глаза весело блестели. Платье из голубого левантина плавно струилось до самого пола; девически хрупкие плечи оставались открытыми, а ниже, под тонкой тканью угадывались очертания вполне сформировавшейся груди.
С того времени, как Адель из шаловливой девчонки превратилась в исполненную сознания своей прелести юную особу, расходы семейства Флери сильно возросли, поскольку интерес старшей дочери к нарядам казался поистине безграничным. В четырнадцать лет она являлась большой поклонницей сентиментальных любовных романов и грезила о встрече с каким-нибудь блистательным офицером.
– Мама, смотри! – возбужденно заговорила она, показывая матери белый конверт. – Горничная только что передала мне это письмо. Здесь написано «для мадам и мадемуазель Флери». По-моему, это приглашение на бал!
– Пожалуйста, подай мне нож, – сказала Элиана сыну. Ролан протянул ей ножичек для разрезания бумаг, и женщина вскрыла конверт.
Внутри оказался всего один листок. Элиана пробежала его глазами. Адель нетерпеливо заглядывала ей через плечо.
– Что там? – спросил Ролан, заметив, что мать нахмурилась.
– Адель права. Нас просят пожаловать на бал, который устраивает министерство внешних отношений. Здесь пригласительный билет на три персоны. Мне, тебе, – кивнула она дочери, – и еще третьему лицу, чье имя мы должны вписать сами.
Адель взвизгнула от восторга и почти что выхватила листок из рук матери.
Она еще раз прочитала вслух текст и подпись, выполненную затейливой вязью: «Максимилиан Монлозье де Месмей». Девушка собиралась что-то сказать, но в этот момент из детской донесся грохот и оглушительные мальчишеские вопли.
– Пойду выясню, что случилось, – с улыбкой произнес Ролан.
Через минуту он вернулся в сопровождении младших братьев, запыхавшихся и растрепанных.
– Ты бы видела, мама, во что они превратили комнату, – сказал он. – Пожалуйста, познакомьтесь: это генерал Даву, а это – маршал Ней!
– Он первый начал разрушать крепость! – воскликнул двенадцатилетний Андре, указывая на восьмилетнего Мориса, который буквально задыхался от смеха.
– Нет, это ты! – через силу выдавил тот.
– Если думаете, что я стану разбираться, кто виноват, то ошибаетесь, – сказала Элиана. – Наводить порядок будете вместе. А сейчас садитесь и отдохните.
Мальчики уселись на диван, все еще посмеиваясь и тяжело дыша. Старший, Андре, походил на Бернара больше, чем Ролан, унаследовавший и материнские, и отцовские черты. Ролан казался привлекательнее и мягче, Андре же был вылитый отец: те же прямые черные волосы, пронзительный взгляд темных глаз и неутомимая энергия движений.
Отношение Элианы к младшему сыну, русоволосому кареглазому мальчику, оставалось неоднозначным, хотя об этом никто не догадывался. С одной стороны, она болезненно реагировала на его капризы и проявление характера (что, конечно же, случалось и с другими ее детьми), а с другой – часто испытывала к нему особую щемящую жалость. Она не могла окончательно забыть о том, что предшествовало его появлению на свет, как и о том, что в свое время пыталась избавиться от этого ребенка. Пока мальчик был еще совсем мал, женщина прилежно пеленала, купала и кормила его, но делала это машинально, не по зову сердца, а когда Морис подрос, настороженно наблюдала за тем, как с ним общается Бернар, хотя, похоже, она напрасно волновалась: если Ролан продолжал относиться к отцу с огромной почтительностью и безграничным уважением, видя в нем некий идеал, то Андре и Морис беззастенчиво вешались Бернару на шею и буквально не давали ему покоя. И он одинаково шутил и играл с ними обоими.

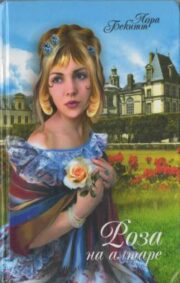
"Роза на алтаре" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роза на алтаре". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роза на алтаре" друзьям в соцсетях.