Было за полночь; над спящей землей плыл легкий туман, едва различимый на фоне густой синевы небес. Листья деревьев в свете полной луны серебрились, точно присыпанные снегом, крыши домов сверкали, словно зеркала, а окна выглядели кусочками фольги, наклеенными на матовую поверхность стен. Создавалось впечатление, будто чья-то невидимая рука нарисовала на черной бумаге этот тонущий во мгле волшебный город, и сердце Элианы наполнилось тихим восторгом, а душа – уверенностью в том, что в этом сказочном мире ни с ней самой, ни с ее родными не может случиться ничего плохого.
Ей не пришла в голову мысль, что она видит Париж таким, возможно, в последний раз.
Пришло двенадцатое июля, а с ним и новые волнения. Мирные жители были призваны не покидать своих домов, и тем не менее на улицы высыпали толпы народа. Кое-где рабочие и ремесленники начали захватывать оружие и нападать на таможенные заставы. Слышались выстрелы, по улицам ходил патруль, тревожно звучал набат.
К вечеру Париж кипел, как огромный адский котел; и центральная часть города, и предместья были полны беспорядочного суетливого движения. Временами казалось, будто земля уходит из-под ног и всех уносит куда-то невидимый бурлящий поток, И хотя старый мир еще не умер, а новый не успел родиться, и никто пока толком не осознал своей цели, не провел границы, по одну сторону которой остались враги, а по другую были друзья, и все вместе трепыхались в силках неопределенности, каждый постепенно начинал понимать, что время сжигает мосты в прошлое и меняет прежний образ мыслей, что нужно найти в себе силы жить по-новому. Но никто еще не представлял – как.
Но фон уже был черным, а краски красными: над ночным городом стояло зарево – отражение яркого пламени факелов в руках множества повстанцев и огромных костров, в которые превратились заставы. И в эту ужасную ночь – ставшую началом цепи других, куда более ужасных! – дух всеобщей безнаказанности уже гулял по улицам, воспламеняя ненавистью полные мрачного отчаяния сердца.
Амалия и Элиана сидели в гостиной, плотно закрыв ставни и не смея лечь спать, тогда как Филипп, невзирая на все предупреждения, отправился к соседям узнать последние новости.
Вернувшись, он быстро вошел в зал и произнес прямо с порога, даже не сняв шляпу и редингот:
– Предместья охвачены пожаром. В Париже настоящий хаос. В окнах велено зажечь огни. Кругом гвардейцы с факелами, толпы разъяренной черни! – Он говорил растерянно и сбивчиво – Я видел глаза этих людей, их лица… В их души вселился дьявол! Никто ничего не понимает, все будто бы разом лишились рассудка. Париж похож на город восставших из могилы мертвецов! – И тяжело вздохнув, закончил: – Надо уезжать!
Амалия задрожала.
– Сейчас?!
Филипп, в сердцах выложивший напрямик безжалостную правду, внезапно очнулся и, увидев испуганно расширенные глаза жены и дочери, понял, что совершил непоправимую ошибку, ибо перед ним были всего лишь две беспомощные, бессильные перед жизненными невзгодами женщины.
Тем не менее он ответил:
– Да, сейчас. Собирайте вещи. Я велел Огюсту заложить карету. Я иду от Лорансо – они тоже уезжают. Я прикажу Огюсту ни на шаг не отставать от их экипажа. И Дезире пусть едет с вами.
– А вы, папа? – прошептала Элиана.
– Нет, – Филипп был бледен, но черные глаза его светились упорством, – я остаюсь. Возможно, еще сумею послужить отечеству и королю!
– Тогда и мы не поедем! – воскликнула Амалия, прижимая руки к груди.
Но Филипп шепнул ей несколько слов, и женщина сникла, покорно кивнув головой, а потом отец обратился к Элиане:
– Не волнуйся, дочка, пока нас никто не трогает, и я уверен, что вы сможете спокойно покинуть город. Лорансо позаботятся о вас. А я вас потом догоню.
Девушка не стала спорить. Сейчас инстинкт был сильнее разума, и она не могла заставить себя делать какие-то выводы и была не в состоянии хоть как-то оценить ситуацию.
Она рассеянно следила за тем, как мать собирает фамильные драгоценности и серебро, какие-то безделушки, кажется, фарфоровые статуэтки, с камина, старинные часы… По приказу Амалии Дезире сняла со стены портреты в тяжелых рамах, и гостиная сразу приобрела неуютный, сиротливый вид.
Элиана уложила бювар, письменные и швейные принадлежности, шкатулку со своими девичьими сокровищами, несколько нотных тетрадей и книг и немного белья.
Она надела юбку из плотного темно-зеленого сукна и бархатный казакин – распашную кофточку с широкой баской. Волосы убрала под соломенную шляпу.
Она не испытывала страха, только чувство странного неудобства, вызванное необходимостью совершать непривычные действия, и еще – неприятное возбуждение: все ее тело сотрясала внутренняя дрожь, которую невозможно было унять.
Прощаясь с отцом, они сомкнули объятия, как это делают близкие люди, так, точно соприкасаются не только телами, но и душами, – в безудержном стремлении продлить секунды расставания, соединить воспоминания о пережитом в одном безмолвном мгновении.
Дезире волокла по ступеням узлы. Те, что потяжелее, перенес Огюст. Потом дамы сели в карету и поехали к Лорансо, а оттуда, следуя за их экипажем, – к одной из уцелевших застав.
Элиана вглядывалась в воспламенившуюся тьму, из глубины которой – она ясно чувствовала это – надвигалось что-то огромное, злобное, бездушное. Словно какое-то сорвавшееся с цепи чудовище блуждало по улицам вместе с толпами людей. Слышались отдаленные ружейные залпы, звон разбитых стекол, чьи-то крики… Все сливалось в гул, могучий и глубокий; казалось, будто вдалеке кто-то невидимый перекатывает огромной рукой тяжелые камни.
По мере того как ночной мрак сгущался, вспышки света становились все ярче; в темном небе виднелись отблески невиданного зрелища земного пожара, по застывшим в безмолвии фасадам домов блуждали зыбкие тени. Элиане казалось, что предметы теряют реальность и сама реальность постепенно превращается в кошмар.
Белое лицо девушки выступало из мрака кареты; временами создавалось впечатление, будто ее кожу лижут языки пламени, похожие на огненных змей. Волосы искрились, а темные глаза горели, как угли. Амалия сжалась в углу сиденья, а Дезире испуганно глазела по сторонам, слегка привстав и вытянув шею.
Оба экипажа прогрохотали по грубо вымощенным улицам предместья и подъехали к заставе. Карета супругов Лорансо проскочила вперед, а экипажу де Мельянов преградили путь какие-то вооруженные люди.
Дверца кареты распахнулась, и три замершие от неожиданности пассажирки увидели хмурое человеческое лицо. К счастью, в глазах этого облаченного в форму гвардейца мужчины не было ненависти.
– Э, да тут одни женщины! – спокойно произнес он и обратился к сидевшей с краю Дезире: – А ну-ка, вылезай, малютка! И вы, мадемуазель! И вы, мадам.
Элиана подобрала юбки и спрыгнула на грязную мостовую, не выпуская руки матери. Теперь она почувствовала страх, но поверхностный, ненастоящий, такой, какой чувствуешь, разглядывая страшные картинки или слушая чей-то пугающий рассказ: он не успел проникнуть глубоко в сердце, еще не успел поработить разум.
– Никого не велено выпускать из города, – заявил второй человек. На нем не было мундира, но зато он держал в руках ружье. – Так что возвращайтесь домой.
В это время какие-то люди стащили с козел Огюста и схватили вожжи. Другие вытаскивали из раскрытой дверцы кареты картонки и узлы.
– Наши вещи! – пробормотала Амалия. – Можно мы их возьмем? И карета…
– Хватит ездить в экипажах! – воскликнул тип в рваной куртке и заляпанных грязью деревянных башмаках. – Идите пешком! Вам бы нашу жизнь, проклятые аристократы!
– Ладно, полегче, дамы и так напуганы, – примирительно произнес гвардеец и повернулся к Амалии: – Наймите фиакр, мадам, да поскорее!
– Но как же так, как же так… – все еще растерянно повторяла женщина. – Мы не сделали ничего дурного… Позвольте нам проехать!
В этот момент кто-то взмахнул кнутом, и карета тронулась с места.
– Давай в Отель-де-Виль, на Гревскую площадь! – услышала Элиана.
Некоторые вещи остались лежать на мостовой, но большую часть увезли в экипаже. Девушка заметила, что гвардеец наступил сапогом на выпавшую из узла маленькую шкатулку, ее любимую шкатулку, склеенную из перламутровых ракушек, и раздавил ее. И еще чьи-то ноги втоптали в грязь портрет ее бабушки, красивой надменной дамы в платье с фижмами. Золоченая рама треснула, и холст был порван в нескольких местах.
При виде этого Элиана почувствовала себя так, как будто кто-то грубо и бесцеремонно вторгся в ее душу. Прежде ей не доводилось испытывать ничего подобного, и теперь она поняла, что значит потерять частицу привычного мира. От ее сердца словно бы оторвали нечто дорогое, больно царапнули по живому, и девушка знала: чтобы это ощущение прошло, понадобится немало времени.
И все же она сумела прийти в себя гораздо раньше Амалии.
– Ради всего святого; мама, поехали назад! Нам нельзя двигаться дальше, это опасно! Огюст, Дезире, поищите фиакр!
…Когда через час они с немалыми трудностями добрались до дома, первым, кого увидела Элиана, был отец: Филипп де Мельян стоял на крыльце и с тревогой вглядывался во тьму. Шляпы на нем не было, и наполовину седые волосы развевались по ветру. Заметив подъехавший фиакр, отец сбежал вниз и обнял жену и дочь.
– Благодарение Богу, вы живы! Я, верно, и в самом деле обезумел, раз отправил вас одних неведомо куда в такую ночь! Что стряслось?
– Все вещи пропали, – бессильно произнесла Амалия. – И карета тоже.
Филипп изменился в лице: семейные реликвии немало значили для него.
– Ничего, пустяки. Главное, вы целы, – Повторил он. – Идемте в дом. Этьен искал лошадь, чтобы отправиться за вами. Он чуть с ума не сошел, когда узнал, что я велел вам ехать сейчас.
Только теперь Элиана заметила Этьена де Талуэ: он вынырнул из мрака и стоял рядом с нею. Девушка увидела, как испуг на его лице сменяется радостью: значит, он в самом деле сильно волновался за нее.

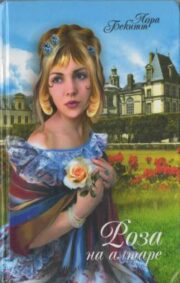
"Роза на алтаре" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роза на алтаре". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роза на алтаре" друзьям в соцсетях.