А затем в доме наступила тишина.
Путаясь в одежде, Элиана добралась до дверцы и отворила ее. В глаза ударил свет, пахнуло свежестью, и молодая женщина почувствовала, как разгоряченное тело мгновенно начало остывать.
Она вылезла наружу. В глазах рябило, пряди волос прилипли ко лбу и вискам…
…Дезире стояла посреди комнаты, бессильно опустив руки. Ее лицо было изжелта-бледным, как глина. Она не произносила ни слова и только смотрела на свою госпожу ничего не выражающим взглядом.
– Что они с тобой сделали?! – воскликнула Элиана и вздрогнула от звука собственного голоса.
Служанка отрицательно покачала головой и указала на распахнутую дверь гостиной.
Там все было раскидано, попорчено, разбито. В воздухе кружился пух, с диванов и кресел свисали клочья порубленной саблями обивки.
Элиана повернулась и медленно вошла в гостиную, на полу которой покоилось что-то неподвижное, неживое. Молодая женщина приблизилась и увидела Этьена – он лежал на спине, широко раскинув руки, и его остекленевшие глаза смотрели в пустоту. Бездушная рука смерти стерла краски с его лица, изменила привычные черты, и Элиана поняла: на нем больше никогда не появится иного выражения, кроме этого – беспомощно-изумленного и страдальческого…
Пуля попала Этьену прямо в грудь, и его окрасившаяся кровью белая рубашка пылала багрянцем, будто какое-то чудовищное знамя.
Элиана ощутила вкус крови на своих губах и содрогнулась. Она не заметила, как в бессознательном стремлении заглушить подступившие рыдания вложила пальцы себе в рот и прикусила их.
Подошла Дезире и молча встала рядом.
Они взялись за руки и стояли не двигаясь, две белые фигуры, тонкие и прямые, словно свечи.
Была ночь, и мир казался черным, как зола, ввергнутым в леденящее оцепенение, в мертвый сон. И в этот миг они обе не верили в то, что когда-нибудь вновь взойдет солнце.
Минули август и сентябрь 1792 года, месяцы, на протяжении которых народ разрушал бюсты и статуи королей, монархические эмблемы и гербы, расправлялся с дворянами и духовенством, попутно сокрушая все, что попадалось под руку.
Позади было взятие Тюильри, заключение Людовика XVI в замок Тампль, окончательная победа якобинцев на выборах в Конвент и провозглашение Республики.
За два роковых месяца при полном попустительстве вновь созданного правительства народной стихией в Париже было уничтожено не менее десяти тысяч человек: священников, дворян, заключенных в девяти городских тюрьмах, сумасшедших и бродяг в Бисетре и просто тех, кто случайно оказался на пути.
На площади Карусель, близ дворца Тюильри – бывшей резиденции монарха – соорудили первую гильотину, дьявольское изобретение, машину для отрубания голов, будущую безжалостную и бездушную «королеву» Революции.
Одновременно Коммуна Парижа учредила Чрезвычайный трибунал для суда над «изменниками» и «заговорщиками».
Обращения «господин» и «госпожа» были отменены, отныне все становились «гражданами», гражданами Республики.
Недавно свершилась головокружительная победа французских войск при Вальми, и Париж пребывал в лихорадочном ликовании: впервые за долгое время люди смеялись и веселились на улицах.
Стояли ясные дни, и воздух был полон безмятежности поздней осени. Золотистый свет омывал стены зданий, сиял в оконных стеклах и водах Сены, переливавшейся в его лучах словно змеиная кожа. Небо светилось нежной голубизной, и осеннее солнце ласково грело землю. И в то же время кругом витало ощущение чего-то уходящего навсегда, какой-то пронзительной тоски. Это чувствовалось и в свежести ветра, гулявшего над кровлями, и в запахе сырости, доносившемся с набережной, и в неясных звуках, долетавших откуда-то издалека.
Элиана де Талуэ, урожденная де Мельян, девятнадцатилетняя вдова, сидела в гостиной родного дома, куда переехала сразу же после похорон Этьена, и слушала разговор родителей.
– Я не перестану считать себя дворянкой только потому, что мне велит это сделать какой-то бесчеловечный и глупый закон, – тихим голосом говорила Амалия, и в ее голубых глазах отражалась странная смесь растерянности и упрямства.
– Они думают, что уравняли нас всех; что ж, да, они правы: все мы, и аристократия, и буржуазия, и простой народ – вкусим свою долю лжи и пострадаем от неправедных деяний новоиспеченных благодетелей, – отвечал Филипп. – Когда госпожа Революция решает разгуляться, она не выходит на улицу одна, а берет с собою подружку-смерть. А та косит всех подряд, не разбирая своих и чужих.
Сказав это, он посмотрел на дочь, которая молча куталась в темную шерстяную шаль. Она выглядела осунувшейся и побледневшей, и все же отец любовался ею. Какие мягкие и в то же время строгие черты нежного, оберегаемого от солнца лица, густые, волнистые, отливающие золотистым блеском волосы, округлые маленькие руки!
Время от времени она слегка подрагивала плечами, словно от холода, и плотнее закутывалась в шаль. Она пребывала в глубокой задумчивости и ни разу не подняла глаз.
Филипп тяжело вздохнул. Ладно они с Амалией, но их юное дитя! Это жестокое время поломало ей жизнь, лишило ее счастья и любви. И настоящей свободы, что бы там ни говорили поборники новых идей!
– Они еще религию переделают, скажут, что мы молились не тому Богу, – нерешительно произнесла Амалия и затем прибавила: – Ну ничего, наши сердца и души им не одолеть!
«Все может быть, – подумала Элиана – Они хотят превратить нас в толпу, а у толпы нет разума, нет лица. Для толпы жизнь человека – ничто. Одним больше, одним меньше – какая разница! Революция примет любую жертву, Революция оправдает все! Кто знает, чем все закончится, если то, что пришло сейчас, пришло надолго. Поколение отца скоро исчезнет с лица земли, тех из нас, кто неугоден нынешнему режиму, ничего не стоит уничтожить, ну а нашим потомкам можно будет внушить все что угодно, любые идеи, можно заставить их поверить любой лжи».
В этот миг Элиана искренне порадовалась тому, что у нее нет детей.
Теперь она многое понимала, ибо ничто так не помогает взрослеть, как страдания и горе.
Она подумала об Этьене. Она хотела избавиться от него, потому что он ей надоел, хотела отдать его другой, и этой другой оказалась смерть. А она жива… Элиана вздохнула. Многие ценности того мира, в котором она прежде жила, были ложными. Раньше она почти не обращала внимания на то, что происходит вокруг, думала только о себе и о своих чувствах. Мир казался ей сценой, на которой разыгрывалась одна единственная пьеса – ее жизнь. А большинство окружающих людей исполняло роль безмолвных статистов. И другие – она знала – жили так же.
Но теперь она понимала, насколько ценна жизнь, жизнь любого человека. Она без конца вспоминала лицо Этьена и эту незнакомую, страшную неживую улыбку и чувствовала, что никогда не простит себе отношения к мужу в тот ужасный день.
Молодая женщина встала, извинилась и прошла к себе в спальню. На кровати пестрым ворохом лежали ее девичьи наряды. Элиана посмотрела на них снисходительно – как на мишурную оболочку, и одновременно – не без тайного сожаления, как на что-то непорочное и прекрасное, по воле судьбы утраченное навсегда. Прошлое должно было умереть в ней, мечты – увянуть, как лепестки роз, сорванные холодным ветром, и в то же время она понимала, что жизнь никогда не сможет стать чистым листом бумаги, на котором в любой момент можно начать писать новую историю.
И это касалось не только ее жизни, жизни всех людей, жизни страны.
ГЛАВА IV
И наконец настал 1793 год, год, когда Париж, а за ним и вся Франция заплакали кровавыми слезами, когда в душах и сердцах людей сломались все преграды, когда все мрачное, творимое в ночи вышло на свет Божий и в мире воцарились безрассудство, ложь и слепота.
Элиана и Дезире стояли в очереди в лавку за пайком хлеба. Утро было таким же как всегда: темным, сонным и очень холодным. Снег падал медленно, ровно, и в этом не нарушаемом ничем, неторопливом, непрерывном движении таилось что-то безжизненное. Серые облака затянули небо до самого горизонта, и дул жестокий, пронизывающий северный ветер.
Снег лежал лишь на деревьях и крышах домов; на мостовой он сразу таял, и она тянулась вдаль угольно-черной траурной лентой. Под ногами чавкало серовато-бурое месиво из грязи и увядших полусгнивших листьев, а от земли веяло каким-то мертвым дыханием.
Женщины вышли из дома задолго до рассвета и тем не менее оказались в самом хвосте длинной очереди, безмолвно и устало ожидавшей, когда начнут выдавать сырой, тяжелый, как глина, хлеб.
В связи с постоянно ухудшавшимся военным положением ситуация с продовольствием стала критической. Обычным блюдом была жидкая и пустая похлебка из чечевицы, а если в нее добавляли немного муки или лука, такой обед считался настоящим пиром. Мяса выдавали по фунту на десять дней, но его не всегда удавалось достать. Иногда вместо мяса предлагали селедку.
У спекулянтов можно было купить почти все, но сейчас мало кто имел достаточно денег. Курс ассигнаций быстро падал, цены росли, рабочих мест не хватало. Не помогало ничего: ни принудительный денежный заем у состоятельных граждан, ни изъятие «излишков» зерна у крестьян.
Но Элиана заметила, что, несмотря на все тяготы, в самом начале основания Республики люди жили с большей надеждой, чем когда-либо.
Филипп де Мельян говорил по этому поводу: «Можно накормить народ хлебом, а можно – идеями. Последнее и проще, и дешевле».
Мимо очереди проследовали комиссары Конвента, яркий наряд которых составлял резкий контраст с темными одеждами толпы: круглые шляпы с трехцветными перьями и развевающейся трехцветной тафтой, синие куртки с обилием республиканских украшений и коричневые ботфорты. У бедра болтались шпаги.
Они внимательно и с подозрением оглядели очередь – бледные хмурые лица, сгорбленные фигуры, и очередь невольно сжалась под этими взглядами, молчаливая и терпеливая.

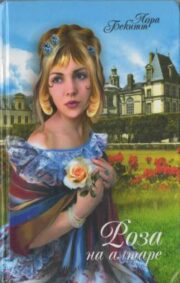
"Роза на алтаре" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роза на алтаре". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роза на алтаре" друзьям в соцсетях.