В который уже раз он проклял тот миг наваждения, когда вообразил, что может заполучить и девушку, и поместье таким простым способом — переспав с ней. Воистину, он, должно быть, тогда совсем рехнулся! Но стоило ему вспомнить, как она выглядела, когда стояла в этой тихой заводи, а искры солнечного света сверкали на ее влажных ресницах и ее гибкие руки и точеные ноги были открыты его взгляду, — и он был вынужден признаться, что ему точно известно, какого сорта безумие накатило тогда на него. Он полностью — и совершенно неожиданно — отдался во власть непреодолимого желания, которое потянуло его к стройной, похожей на нимфу девушке, и это желание всецело подчинило его себе и замутило разум. А теперь, похоже, ему придется дорого заплатить за свою ошибку.
В гулкой беспросветности маленькой клетки он изо всех сил старался обрести то же состояние спокойствия, которого в конце концов добился в темнице Данмоу, — добился ценой немалых усилий. Тогда он бесновался из-за несправедливости ложного обвинения, его выводило из себя, что он даже не знает, кто же обрек его на этот ужасный конец, он терзался от незавершенности жизни, которую не удалось прожить как было задумано. И все-таки за долгие дни и ночи, прошедшие в ожидании неминуемой казни, он достиг некоей готовности принять выпавшую ему судьбу. Он поклялся встретить Создателя со всем достоинством, которое сможет найти у себя в душе.
Но потом, когда произошел неожиданный перелом, он почти воспылал гневом. Броня отрешенности и смирения была разрушена, и снова страх и боль вырвались наружу, словно открылась рана, которая только что начала заживать.
Растрепанная грязнуля, с таким страхом поднявшаяся на помост гнусной виселицы, являла собой одновременно и посланца дьявола, и ангела Божьего. Невозможно было поверить, что она не просто плод его воображения, не примерещившийся ему ответ на страстные молитвы о спасении. Все-таки она стояла там, испуганная… устрашенная… почерпнувшая смелость в собственном отчаянии. Она тогда в страхе ухватилась за его тунику, и ее поразительные глаза горели лихорадочным блеском. Но не блеск этих глаз заставил его решиться. Может быть, при других обстоятельствах его и растрогали бы эти огромные горящие глаза. Но в тот день… в тот день почему-то на него сильнее всего подействовало неожиданное тепло ее пальцев, слегка коснувшихся его груди.
Каким-то странным образом смерть уже начала прибирать его к рукам, когда из веселящейся толпы к нему рванулась эта девчонка.
А ведь он уже смирился со своей судьбой и перестал цепляться за жизнь. Но ее теплое прикосновение… Оно было подобно прикосновению самой жизни, манящей его… соблазняющей его — использовать этот последний шанс, не сдаваться.
Эрик откинулся назад, прислонившись к шершавой стене, не обращая внимания на острый каменный выступ, упирающийся в его больное плечо. Что же, он использовал этот шанс, избегнув тогда петли палача, но теперь стало ясно, что то была лишь отсрочка казни. Временная передышка. А теперь она окончена.
Со злобным проклятием, еще раз застонав от боли, он поднялся на ноги и осторожно повел левым плечом. Кровь Господня, он не хочет умирать! Он беспокойно мерил шагами маленькую душную камеру. Три широких шага в одну сторону, потом три шага обратно. И столь же нетерпеливо метался по одному и тому же кругу его взбудораженный разум, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь путь к спасению, хоть какой-нибудь выход из дьявольской западни, в которую он угодил. Но и здесь перед ним вставали такие же каменные стены. Он мог измышлять какие угодно планы, но в конце концов все возвращалось к одному и тому же. Если она не надумает встать на его защиту, он умрет. Если она не станет отрицать, что он лишил ее невинности, его шансы выжить просто смехотворны. Что скажет он сам — не имеет никакого значения для ее отца. Все зависит только от нее.
Когда этот вывод вполне угнездился в его сознании, он уперся обеими руками в дубовую дверь и привалился к ней всей тяжестью, признавая свое поражение. Если его судьба в ее руках — он обречен.
Розалинда спускалась по древним каменным ступеням, все еще нетвердо держась на ногах. Она дома, повторяла она себе снова и снова. Именно к этому она стремилась, и ей можно наконец почувствовать себя счастливой. Но, как она себя ни уговаривала, ничего из этого не получалось. Она не могла избавиться от убийственного ощущения страха, которое нависало над ней, словно черная туча. Опустошенность и полнейшая растерянность все еще держали ее в своих когтях. Она только что проснулась, но некое чувство подсказывало ей, что рассвет уже давно миновал. И хотя перед сном она, с помощью одной из прислужниц, приняла ванну и платье на Розалинде теперь было новое — пусть и не модное, но во всяком случае чистое, — она не могла насладиться обретенной наконец безопасностью. Слишком многое оставалось еще не решенным. Когда мысли несколько прояснились, на нее накатило острое чувство вины, что она так долго спала. Дело с Черным Мечом было далеко не завершено, и требовалось поскорее узнать, освободил ли его сэр Эдвард. Затем она увидела Клива, который в одиночестве сидел за столом. Перед ним стоял огромный деревянный поднос с сыром, нарезанным мясом и сушеными фруктами; казалось, он был вполне доволен собой. Если бы Черный Меч был на свободе, Клив вряд ли выглядел бы таким умиротворенным.
— Клив!
Ее возглас заставил его прекратить процесс запихивания еще одного куска сыра в рот, который уже и без того был набит снедью.
— Клив! — повторила она, и на этот раз в ее тоне явственно прозвучало осуждение.
Он сразу вскочил с виноватым видом. На голове у него красовалась чистая повязка, и Розалинда отметила, что и ему уже удалось принять ванну. Но ее занимали вопросы более важные, чем внешность юнца, и она подошла к нему ближе. Что-то происходило, и Клив наверняка знал, что именно.
— Почему никто не разбудил меня раньше? Который час? — требовательно спросила она. Тут в животе у нее заурчало от проснувшегося аппетита, и, ухватив с подноса горсть изюма, она с жадностью принялась его есть. Однако это не усыпило ее подозрений. — Почему никого не видно? Где все?
— Сейчас около полудня, миледи, А насчет того, где кто находится, так, на мой взгляд, домашняя прислуга здесь не слишком-то многочисленна. — Он обвел пренебрежительным взглядом просторную залу, обстановка которой красноречиво свидетельствовала о заброшенности и запустении. — А те, кто есть, все побежали поглазеть на этого подлеца. На Черного Меча.
Последние слова прозвучали едва ли не хвастливо. Она нахмурилась, но даже это не согнало с его лица выражения очевидного удовлетворения.
Розалинда немедленно насторожилась. Она проспала больше половины дня. Приняв во внимание ненависть Клива к Черному Мечу — к Эрику, — она сразу встрепенулась: что он успел сообщить ее отцу? Но даже если Клив что-нибудь и приврал, это страшило ее меньше, чем другая опасность — что он сказал правду, и, может быть, именно поэтому ее намеренно не пожелали будить и оставили в блаженном неведении. В равной мере испуганная и рассерженная, она подступила к нему, уперев кулаки в бока:
— Что здесь происходит, Клив? Скажи сейчас же, что ты натворил!
Но Клив был не из тех, кто легко уступает чужой воле — даже воле госпожи. Он твердо верил в праведность своего собственного возмущения. Упрямо вздернув подбородок, он отчеканил прямо ей в лицо:
— Ваш отец утром расспрашивал меня, и я не сказал ничего, кроме правды — как этот человек угрожал нам обоим, что он вор и убийца, и еще бахвалился этим! — Юноша откинул волосы со лба, его темные глаза сверкали от негодования. — А потом… Как он поступил с вами!
У Розалинды даже дух захватило: все это было правдой.
— Но ты… ты ничего такого… моему отцу… — выговорила она едва слышно.
У нее на лице отразился такой ужас, что мстительное пламя в глазах Клива медленно угасло, и он потупился, уставившись себе под ноги.
— Этого скота должны повесить, — злобно пробормотал он.
— Что ты сказав моему отцу? — лихорадочным шепотом спросила Розалинда, схватив пажа за плечи и буравя его взглядом. — Что, Клив? Что?
Безоговорочная преданность госпоже боролась в душе Клива со справедливым гневом. Розалинда была убеждена, что он никогда и ничего не сделает намеренно ей во вред, за минувшие дни он доказал, что готов рисковать жизнью, лишь бы защитить ее. Но она сознавала также и другое: в глазах Клива Черный Меч представлял собою опасность для Розалинды, вот и все, просто и ясно. И хотя Розалинда понимала, что часть вины за случившееся лежит на ней, Клив этого не знал и винил во всем только Черного Меча. Он без колебаний сказал бы все, что угодно, только бы Черный Меч не ушел от заслуженной кары. Но если Клив сказал все, что знал, разве тем самым он не обрек человека на смерть?
— Я сказал сэру Эдварду… — В глазах Клива загорелся мятежный блеск, и он стряхнул с плеч ее руки. — Я сказал ему то, что видел своими глазами. Что этот человек нагло приставал к вам, пытаясь… пытаясь… — Он резко оборвал фразу. — Это же так и было, миледи, правда? Я сказал вашему отцу, что я остановил мерзавца, прежде чем… — Клив отвел взгляд в сторону, глубоко вздохнул и только тогда снова возмущенно уставился на нее. — Я сказал ему, что ничего не случилось. Но на самом-то деле — случилось, разве нет?
Ответить Розалинда не могла. Было это так или нет, отпираться или нет — она не находила в себе сил произнести слова вслух. Но даже само ее молчание было для нее как приговор.
В жуткой тишине парадной залы глаза Клива казались почти черными. Дерзкий вызов, который выражало раньше его лицо, уступил место холодной суровости. Не будь Розалинда столь поглощена мыслями о собственных грехах, она могла бы почувствовать: в этот момент Клив распрощался с отрочеством. Его юношеские идеалы разрушила действительность.

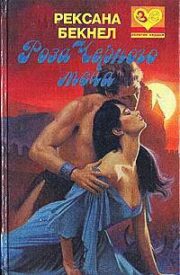
"Роза Черного Меча" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роза Черного Меча". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роза Черного Меча" друзьям в соцсетях.