Я всматривалась в лицо Виктора, которое находилось так близко, что достаточно было поднять руку, чтобы дотронуться до него. И я влюбилась.
Как было возможно влюбиться в мужчину, который умер почти сто лет назад? Не потому ли, что для меня в это мгновение, когда вселенная очутилась в двух сферах времени, Виктор жил и казался таким же настоящим, как и мой дядя Эд или дядя Уильям? Как он мог так волновать меня, так сильно влечь к себе? Происходило ли все это потому, что я каким-то непостижимым образом чувствовала все то же, что и он, переживала его тайные радости и горести? Ответа на эти вопросы не могло быть, ибо сами вопросы возникли из обстоятельств, которые существовали за пределами понимания. Точно так же, как странное мимолетное проникновение в прошлое ничего не проясняло, моя причастность к переживаниям Виктора не поддавалась никакому объяснению. Я смирилась с путешествиями в прошлое и убедилась, что не в силах ни познать его, ни сопротивляться ему. Поэтому придется мириться и с только что родившейся любовью.
Однако это далось нелегко. С одной стороны, от такой любви стало как-то не по себе, поскольку мне была неведома глубокая любовь и все, что с ней связано. С другой стороны, предвкушая странные нежности Виктора, которые и смущали, и пугали меня, я спрашивала себя, испытывала ли я прежде подобные эмоции и, ничего не найдя, удивилась, почему так случилось. Я боялась поглубже заглянуть в свою душу, поскольку знала, что там обнаружу. Ничего, совсем ничего.
Все дело в том, что я никогда раньше не любила — это выяснилось в тот час перед рассветом, когда я копалась в своей душе. Я даже Дуга не любила. Лежа в темной холодной гостиной наедине со своей совестью и воспоминаниями о том, что произошло здесь почти век назад, я впервые изучала себя. Этот опыт был для меня нов. Все отношения с мужчинами сводились к ни к чему не обязывающей дружбе, к мимолетным удовольствиям. За двадцать семь лет у меня было много дружков, а сейчас я могла припомнить только одного — Дуга, которого так жестоко обидела. Остальных я считала лишь предметами потребления. Но я никак не могла вспомнить каждого из них по отдельности, хотя и испытывала к ним мимолетные чувства. Все дело в том, что я всегда бежала от более глубоких чувств, избегала по-настоящему связывать себя с кем-либо, а сейчас столкнулась с неизбежностью, которая находилась вне моей власти.
В прошлом я всегда играла свою игру, вела ее, руководствуясь правилами, которые сама придумала. Они служили оружием защиты, с их помощью я воздвигала надежные барьеры, которые защищали меня от страданий любви. Конечно, мои барьеры способствовали избавлению от бурных порывов чувств, так что, оберегая себя от боли, я также лишала себя счастья любить. И я всегда считала, что плачу за это разумную цену. Но на этот раз власть от меня ускользнула. Я стала одновременно и жертвой, и марионеткой и чувствовала, как мои эмоции перехлестывают разум. Какой спокойной и беззаботной была моя жизнь, какой предсказуемой, какой управляемой. Я умело и легко манипулировала каждой гранью своей жизни.
Как бессмысленно все это было.
Я плакала, думая о Викторе, о боли, которую он испытывал, когда услышал, что Дженни вышла замуж, и осознал, что он ради пустой мечты так глупо загубил свое будущее. Я плакала также, думая о себе, вспоминая бессодержательные дни и ночи, наполненные подобием любви. Как удобно все это было, как спокойно и совершенно бесперспективно. Какая ирония судьбы! Понадобилась целая семья покойников, чтобы вдохнуть жизнь в мою дремлющую душу и разбудить мои уснувшие страсти. Что такое человек, лишенный чувств? Если лишиться любви, ненависти, ревности и целой гаммы переживаний, которые дают смысл существованию, тогда остается лишь одна внешняя оболочка. И я как раз таковой и была до того, как моя нога ступила в дом бабушки, — холодной, бесплодной и безжизненной оболочкой. Я жила одна и ради своего удовольствия в таком маленьком мирке, где для других оставалось совсем не много места. Даже те дружеские отношения, которые я установила и высоко ценила, не подвигли меня взять на себя хоть какие-то обязательства.
Пока мучительно тянулось утро и обнажалось затянутое облаками небо, я начала думать о своем брате Ричарде, который в детстве был моим ближайшим другом и товарищем, а теперь стал мне совершенно чужим. Время и расстояние разлучили нас настолько, что я больше о нем даже мимолетно не думала. Открытка на Рождество, письмо раз в году, если у меня бывало настроение, — этим исчерпывались мои отношения с братом. Как мы были не похожи на Гарриет и Виктора. Гарриет до безумия обожала своего старшего брата, а тот смотрел на свою маленькую сестру с теплотой, любовью и оберегал ее.
Ричард был на пять лет старше меня и когда-то точно так же относился ко мне, и я обожала его. Но затем он услышал зов к приключениям и отплыл в Австралию, а я нашла удобное гнездышко для себя в крупной маклерской фирме, где по собственному усмотрению могла либо расширять, либо ограничивать круг своих знакомств.
Лежа на диване, я думала о том, как Гарриет относилась к Виктору, вспоминала, как она плакала, когда тот уезжал в Лондон, и как бурно встречала его. Из какого-то тайного источника воскресали события прошлого и заполоняли мое сознание, словно прорвалась плотина и вынесла их на поверхность. Вспомнились мои детские годы с Ричардом. Он всегда оберегал меня, заступался за меня, учил, как надо вести себя, и часами развлекал рассказами о приключениях и тайнах. Эти воспоминания всплывали в памяти, давно забытые, незначительные эпизоды времен детства сейчас наполняли меня сладким чувством ностальгии, и мне стало жалко, что так долго я предавала их забвению.
Рождественскими утрами мы разворачивали подарки. Ричард храбро уничтожил паука, забравшегося на мою кровать. Мы оба каждое воскресное утро ходили в церковь. Он помогал мне делать уроки. Ричард делился со мной своей последней конфетой. Я стояла за него горой, он казался высоким непобедимым солдатом! Я смотрела на него с гордостью точно так же, как Гарриет на Виктора. Куда все это подевалось? Почему я забыла эти эпизоды, которые теперь казались мне столь драгоценными?
Меня охватило огромное желание снова поговорить с братом, как это бывало, когда я училась в младших классах, а Ричард собирался служить в Королевских военно-воздушных силах. В тот день мы сидели на моей кровати при закрытых дверях, и Ричард говорил со мной низким взрослым голосом, рассказывая, что он должен уехать, отныне я буду самостоятельной и мне придется самой заботиться о себе. Учитывая деликатность темы и то обстоятельство, что скоро все изменится, Ричард в привычной манере, за что я им восхищалась, дал мне представление о том, что меня ждет в дальнейшей жизни, и серьезно предостерег от ловушек, в которые можно попасть. Он говорил незнакомыми мне словами, рисовал картины, которые ставили меня в тупик. Но со временем я открыла, что все сказанное им правда и его советы даны из лучших побуждений.
Думаю, Ричард был рядом со мной и в то время, когда я становилась старше, и даже в то время, когда казалось, будто в этой жизни меня оставили совсем одну, поскольку советы, которые он давал, чтобы подготовить меня к невзгодам жизни, не изгладились из памяти. Сейчас, услышав, как наверху зашевелилась бабушка, я поняла, что почему-то наивно возлагала на Ричарда вину за свое одинокое отрочество, слишком полагалась на него, а после отъезда отвергла его. Я считала годы отрочества одинокими как раз тогда, когда приходилось стоять за себя. Но теперь я поняла, что все это неправда, что я была несправедлива к своему брату, полагая, что ему надо было остаться дома. Его слова, как и последний разговор в спальне, вспоминались каждый день. Как раз поэтому я и смогла вступить в жизнь достаточно подготовленной и лучше разобраться в ее превратностях. Все-таки Ричард был рядом со мной.
Я настояла на том, чтобы поехать в больницу с тетей Элси и дядей Эдом, и предчувствовала, что дом меня отпустит. Мне все больше хотелось увидеть дедушку и как-то передать ему то, что я узнала об его отце. Дедушке нельзя умереть, не зная, что он оказался несправедлив к своему отцу и всю жизнь верил лжи, ведь Виктор Таунсенд отличался благородством, красотой и заслужил нашу любовь.
Вот о чем я думала однажды на седьмой день своего пребывания в доме бабушки, все еще находясь под впечатлением «посещения» предыдущей ночи. Только позднее я стала свидетельницей противоположного, видела эпизоды, которые могли лишь подтвердить пережитые дедушкой рассказы ужасов, сцены, которые поколебали мою веру и посеяли в моей душе зерна жестоких сомнений. Вскоре мне предстояло убедиться в том, что Виктор Таунсенд, каким я его знала до сих пор, не тот самый человек, которого мне предстояло встретить позднее. Событиям вскоре суждено принять совсем иной оборот.
И подлинный ужас дома на Джордж-стрит предстояло еще увидеть.
Дедушка проспал все время нашего визита и даже ни разу не пошевелился. Пока Элси и Эд, как обычно, разговаривали сами, делая вид, будто дедушка их слышит и в любой момент может ответить, я взвешивала, не стоит ли мне тоже заговорить с ним. Возможно, он услышит и поймет меня. Однако меня смущало присутствие родственников. То, что я хотела сообщить дедушке, надо было сказать наедине, а я никак не могла даже на минуту остаться с ним одна. Голова дедушки покоилась на подушке, и он казался старым, изможденным, скованным постоянной неподвижностью человеком, у которого отслаивается кожа. Однако это был сын Виктора. А за свои восемьдесят три года он вспоминал об отце лишь с ненавистью.
Мне надо переубедить его. Но случай так и не представился, подошло время ехать домой. Пока дядя Эд складывал деревянные стулья и один за другим ставил их друг на друга в углу, а тетя Элси болтала с медсестрой, стоя по другую сторону двери, я смотрела на дедушку и чувствовала непреодолимую потребность заговорить с ним. Когда Элси направилась к выходу, мы с дядей Эдом последовали за ней и обменялись несколькими словами с сестрой. Проходя через двойные двери на улицу, где уже темнело, я вдруг остановилась и заявила, что оставила свои перчатки у койки дедушки.

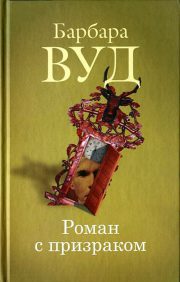
"Роман с призраком" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роман с призраком". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роман с призраком" друзьям в соцсетях.