«С возвращением домой», — сказал в аэропорту дядя Эдуард. Я закрыла глаза. Мой настоящий дом остался в Лос-Анджелесе.
— Андреа.
Я вздрогнула.
— Андреа, посмотри.
В ее устах «посмотри» прозвучало как «досмотри». Она указала рукой в сторону окна.
— Знаешь, что это?
Я протерла кружочек в запотевшем стекле и взглянула на улицу. Рядом высилось похожее на чудовище почерневшее здание, в окнах которого то здесь, то там горели тусклые огни. По правде говоря, определить, что это за здание, было невозможно.
— Это центральная больница, — тихо пояснила она. — Вот здесь ты появилась на свет.
Я вытянула шею и снова взглянула в сторону этого здания. Оно уже осталось позади, и мимо окна мелькал ряд домов. Как странно, что женщина с невнятным акцентом, которая сидела в промерзшей коробочке, именуемой машиной, к тому же ехавшей не по той стороне дороги в восьми тысячах милях от моего дома, сообщила, что это мрачное и отталкивающее здание и есть место моего рождения.
В ответ на мою натянутую улыбку она тоже улыбнулась. Моя тетя старалась изо всех сил угодить мне. Большого желания ответить ей тем же у меня не было.
Над этим маленьким английским городком витало нечто похожее на смутную тревогу. Улицы выглядели холодными и безлюдными, на истертых булыжниках отражался свет викторианских фонарей. Проезжать через Уоррингтон было все равно что вернуться в прошлое.
— Ты должна простить меня, тетя Элси… но полет из Лос-Анджелеса длился одиннадцать часов, к тому же в аэропорту Хитроу пришлось ждать два часа…
— Ну да! — выпалила она. — Это называют нарушением биоритма. Ну и натерпелась же ты, должно быть, а я тут разыгрываю из себя гида. Ладно, сегодня больше нечего беспокоиться — тебе не станут докучать. Вечером никто не ждет тебя в гости, даже дедушка. Для визитов завтра времени будет предостаточно. Сейчас же тебе надо попить горячего чаю и лечь в постель. Ну вот, мы и приехали.
Дядя Эдуард резко остановил машину, и мы по инерции подались вперед. Мне пришлось еще раз протереть кружок на вспотевшем стекле и посмотреть в окно. Я увидела улицу, ничем не отличавшуюся от тех, по которым мы проехали. Вдоль улицы тянулся бесконечный ряд домов из красного кирпича с крохотными садиками.
— Где мы?
— Мы приехали к твоей бабушке, — пробурчала тетя, выбираясь из машины.
Я не без труда покинула машину и снова почувствовала, как мне в лицо ударил леденящий ночной воздух.
— Мы все подумали, что будет лучше, если ты погостишь у бабушки. Она ведь совсем одна, и общество ей не помешает. Уильям или я с удовольствием приняли бы тебя, к тому же тогда тебе было бы лучше, поскольку у нас есть центральное отопление, но твоя бабушка настояла на своем. Как только Рут позвонила и сказала, что ты едешь, она тут же привела в порядок переднюю спальню. Так что ты будешь жить здесь, дорогая.
— Да, тетя, конечно, — поддакнула я.
Я выпрямилась и посмотрела на дом. Это было высокое двухэтажное строение из грязного кирпича с выступавшим темным эркером. К этому темному, лишенному признаков жизни дому с двух сторон примыкали такие же строения, перед ним был запущенный сад. Под влиянием длительного полета, усталости, смятения и одиночества у меня мелькнула мысль попросить тетю, чтобы та отвезла меня к себе домой, где имелось центральное отопление. Но дядя Эдуард уже дошел до конца разбитой дорожки, подошел к двери и вставил ключ в замочную скважину.
Тетя Элси легко подтолкнула меня в спину.
— Идем, дорогая. Попьешь вкусного чаю и хорошо выспишься. Вот что тебе нужно. Тогда утром ты почувствуешь себя лучше.
— Надеюсь, — я устало вздохнула.
Окоченевшая, уставшая от напряжения и дурных предчувствий, голодная и с раскалывающейся от боли головой, я переступила порог дома.
В молодости бабушка, как я уже упоминала, была красавицей. Моя мама поразительно на нее похожа. Глядя в лицо бабушки, можно представить, какой станет моя мать через двадцать шесть лет. Вот эта своеобразная широкая переносица рода Добсонов — кое-кто называл ее «аристократической» — и необычные глаза с серой радужной оболочкой с черным ободком. Тонкие, изящно изогнутые брови, высокие скулы, впалые щеки, чуть заостренный подбородок. Хотя кожа отвисла и покрылась сеткой морщин, но даже сейчас при определенном освещении бабушка выглядела довольно мило.
Бабушка сразу очаровала меня. Я не отрывала взгляда от этой женщины, отдаленно напоминавшей меня. Ее серые глаза наполнились слезами, и она промолвила слабым голосом:
— Андреа…
Опираясь на трость, она неожиданно обняла меня за шею крепкой рукой и, прижавшись к моей щеке, пробормотала:
— Слава богу, что ты приехала. Слава богу…
Возможно, вот так я буду выглядеть через пятьдесят шесть лет. Как забавно сейчас оглянуться и ощутить, что в то мгновение, когда возникла эта мысль, я как будто шагнула в будущее.
Дом бабушки оказался невероятно маленьким. Строители, видно, не очень задумывались над тем, как лучше защитить их обитателей от английской зимы. Единственными источниками тепла были камины, имевшиеся в каждой комнате. Вследствие этого комнаты были небольшими и любая нежилая площадь, коридор или лестничная клетка, строились невероятно узкими и с низкими потолками. Это поразило меня. Я всегда воображала старые английские дома викторианской эпохи просторными и изящными. Вероятно, дома, в которых жили представители высшего общества, такими и были. Однако великий средний класс, порожденный английской индустриальной революцией, жил в более практичных домах меньшего размера, которые пользовались спросом. По этой причине жилище Таунсендов на Джордж-стрит являлось скорее правилом, нежели исключением, и представляло собой один из сотен тысяч типичных английских домов.
— Что скажешь о моем маленьком домике? — спросила бабушка, когда тетя Элси с дядей Эдом ушли и мы расположились в гостиной. Она намазывала маслом ломтики хлеба, сложенные на тарелке, стоявшей у нее на коленях.
Я оглядела комнату: очень старая и громоздкая мебель, прокопченные стены с отслаивающейся краской, выцветшие фотографии на источенном червями серванте, книги в переплетах из черной кожи с тисненными золотом названиями, тяжелые бархатные шторы. Это была крохотная, захламленная гостиная викторианской эпохи. Видимо, для моей бабушки время давно остановилось.
— Эта комната, должно быть, много чего повидала на своем веку, — ответила я.
— Да, так оно и есть. Твой дядя Уильям все время уговаривает меня переехать в муниципальную квартиру. Но не хочется быть на иждивении у правительства, как многие в сегодняшней Англии. У меня есть свой домик, и я постараюсь сохранить его. Дядя постоянно твердит, что надо установить центральное отопление. А мы шестьдесят два года обходились каминами, и, думаю, сейчас не следует ничего менять.
— Неужели этому дому уже столько лет?
Несмотря на то что горел газовый обогреватель, встроенный в камин, я все же чувствовала, как в комнату проникает холод и гуляет по моей спине.
— Боже, подумать только! Вот сколько я живу здесь! Шестьдесят два года. Когда я вышла замуж за твоего дедушку, он привел меня сюда.
— Сколько лет этому дому?
— Его построили в тысяча восемьсот восемьдесят втором году. Значит, ему почти сто лет.
— Он когда-нибудь перестраивался?
— Да, скорее всего. Нам провели электричество, ты сама видишь. — Бабушка кончиком ножа достала из лежавшей у нее на коленях банки большой кусок какого-то ярко-желтого вещества. Этот кусок густо и плавно расплылся по хлебу. Бабушка отправила его в рот и вытерла руки о кофту. — А наверху у нас появился туалет. Случилось так, что на этой улице мы остались последними, кто все еще ходил в туалет во дворе. Так что мы попросили провести водопровод. Но ему сейчас уже много лет, и с ним надо обращаться осторожно. У нас есть еще ванная.
Дрожа от сырости и холода, выползавших, казалось, из всех щелей, и в то же время чувствуя, как от газового пламени согреваются мое лицо и ноги, я вообразила допотопную ванную комнату и решила, что больше всего мне здесь будет не хватать уютной квартиры в Лос-Анджелесе. В то время, как я задумалась об особенностях своего временного жилища и из вежливости старалась проглотить немного сладкого чаю, приготовленного бабушкой, начало происходить нечто странное. В комнату ворвался сквозняк, вызвав у меня озноб. Бабушка, видно, не заметила этого, потянулась к старому портативному радиоприемнику, стоявшему на столе рядом с ней, и включила его. Мне показалось, будто я услышала ее голос:
— Пора послушать мою любимую музыкальную программу.
Но я не была уверена, что эти слова произнесла бабушка, ибо она сидела спиной ко мне и ее голос прозвучал невнятно. Когда из миниатюрного радиоприемника зазвучали протяжные звуки волынок, меня охватила безудержная дрожь, такая сильная, что я чуть не разлила чай и не уронила тарелку на пол.
Испугавшись, бабушка обернулась.
— Похоже, ты замерзла! — Она с трудом поднялась. — Виноват этот чертов английский холод. А на тебе ничего нет, кроме тонкой калифорнийской одежды.
Я хотела было что-то возразить, но мои зубы начали стучать, рот стал дергаться, и с этим невозможно было справиться. Бабушка забрала у меня тарелку и чашку, поставила их на стол, затем прошаркала к дивану и взяла сложенное одеяло. Накрыв меня этим одеялом и подобрав его, она ласково сказала:
— Я люблю вздремнуть днем и часто кутаюсь в это одеяло. Оно из хорошей шотландской шести и отлично согревает.
— Б-боже, — произнесла я, стуча зубами, — я такого не ожидала…
И дрожь усилилась.
Холод витал не в воздухе. Я чувствовала, откуда он идет, и могла бы сказать бабушке, что ее одеяло не поможет. Холод шел изнутри, ледяное дыхание поднималось из глубины тела и вырывалось наружу. Лицо начало гореть, кожа стала теплой и сухой. Но я все равно тряслась от ужасного холода, который не отпускал меня. Вдруг до моего слуха донеслись едва различимые звуки пианино, будто играли где-то далеко-далеко. В льющиеся из радио громкие завывания шотландских волынок вклинилась до боли знакомая мелодия. Я взглянула на радио, затем на бабушку, которая снова начала мазать лимонный джем на хлеб. Пианино не умолкало, волынки почти заглушали его. Невозможно было понять, где играют. Складывалось впечатление, будто эти звуки долетают одновременно со всех сторон.

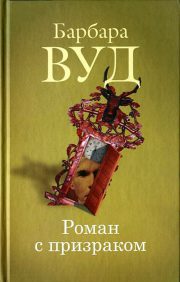
"Роман с призраком" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роман с призраком". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роман с призраком" друзьям в соцсетях.