– Это горит дворец Цезарей, – сказал янитор. – Несколько молний угодили в Палатин и, как говорят, одна попала прямо в спальню императора.
Юлия молча посмотрела на него, и янитор склонил голову. Во дворе звенели сбруей и фыркали кони. Адонис коснулся плеча госпожи:
– Идем! Они ждут, и я провожу тебя к ним, Солдаты сумеют уберечь нас в этом бешеном городе!
Рабы, опечаленные прощанием, преклоняли колени перед госпожой и ее вольноотпущенником, будто смерть, летающая над Римом, уже наложила отпечаток на их лица.
Юлия быстро сошла по ступеням, на чьих мокрых поверхностях как горячее масло растекались отблески факелов и белели истоптанные лепестки роз. Эфеб, укутанный в греческий паллиум, склонялся гибким станом, слегка поддерживая госпожу.
В темноте вымощенного плитами двора, куда падала круглая тень бельведера, молодые сарматы были подобны мрачным теням, восставшим из подземного царства. Тяжелый дух лошадей и железа исходил от всадников, покрытых с головы до ног доспехами. Повинуясь приказу претора, они молча ждали высокородную матрону. Впереди побежал раб с факелом, будто огненным мечом разрубая густую, как смола, тень. Юлия, бросив быстрый взгляд на всадников, прошла к цизию – повозке на двух колесах, и солдаты уловили тонкий запах благовоний, исходящий от ее кожи.
Раскрылись ворота, кони помчали Юлию и сирийца вниз по узким чистым улицам, вымытым дождем. Следом поскакали десять всадников по двое, держась вблизи цизия. За ними покатили две простые повозки, запряженные четверкой лошадей, в которых сидели молодые невольницы и лежали огромные деревянные сундуки.
Покинув дом на вершине Целия, Юлий отправился в лагерь за Тибром, где стояли легионы, готовые к походу.
Буря улеглась, и теперь отвесно лил дождь. Его струи становились все реже. Шумел Тибр, поднявшийся над берегами, пенистый и темный. Мусор и нечистоты неслись к морю, закручивались в водоворотах и меж каменных свай Мульвиева моста. Сквозь шум и грохот воды Флавий различал звуки лагеря, ржанье коней и звон оружия. Взошла луна, в ее холодном зеленоватом свете заискрилась река, окаймленная мокрой галькой. Черный массив моста сливался с ночью, исколотой огнями лагеря, и его арки обозначились тонкими зелеными лучами. По правую сторону от города протянулись длинные непроницаемые тени, по левую – шумел невидимый лагерь. Колесница главнокомандующего въехала на мост, турма последовала за ней в латах, сияющих в прозрачном свете луны. В тот же час с другого края двинулись дозорные, почти все арабские наемники, и стали быстро приближаться. Мост заполнился всадниками. Топот коней и зычные голоса приветствовали претора и отлетали к луне, равнодушно мерцавшей средь разорванных туч.
В лагере царило оживление. Ревели верблюды, перепуганные бурей либийцы раздраженно лупили их по плоским змеиным головам с большими зеркальными глазами. Ржали кони. Мунифиции ставили палатки, разметанные бурей, укрепляли значки и знамена манипулы или центурии у зияющего чернотой входа. Гастаты и латники в панцирях собирали снаряжение: длинные копья, круглые щиты, железные топоры. На остриях трепетало отраженное пламя высоких костров, возле которых спокойно сидели ветераны – треарии, вооруженные дротиками. Проскакала турма, состоящая из тридцати двух человек. Горячие арабские стрелки надевали путы на своих тонконогих лошадей. Юлий в сопровождении всадников двигался к своему шатру и взглядом сытого льва окидывал военный лагерь, многие годы бывший его домом.
Претор Флавий в шлеме, легких доспехах, мокрой синей хламиде, покрывающей круп коня, скакал, гордо вскинув голову. В свете костров он увидел неподвижно стоявших катафрактариев в узких позолоченных кольчугах, делавших их похожими на рептилий. На их тяжелых конях так же красовалась броня, сплетенная из множества плоских колец. Юлий восхитился видом всадников. У его шатра вяло трепетали знамена, бегали рабы-азиаты в длинных одеждах без пояса, у входа стояли преторианцы с обнаженными мечами. Командиры когорт и манипул приветствовали своего претора.
Цизий уже скатился с пологого склона Целийского холма, пугая бродячих псов, дерущихся за отбросы. Немые дома в жидком лунном серебре нависли над запутанными руслами улиц. Возведенные Домицианом по всем кварталам Рима и изукрашенные императорскими триумфальными отличиями, священные храмы таяли в холодной синеве ночи. Их ворота и арки, кое-где слабо освещенные чадящими светильниками, были увенчаны колесницами и изваяниями богов и напоминали сейчас гранитные глыбы. Сарматы скакали рядом с цизием, и Юлия замечала их нескромные взгляды.
В городе чувствовалось мятежное брожение. Метались какие-то тени, маршировали когорты преторианцев. Вой и крики разносились по улицам. Пронеслись турмы конницы во главе с декурионом, в развевающейся хламиде и с луком в руке.
Тучи сгустились, тонкий свет луны, подобный яркой грезе, поглотил мрак. Туман, как расправленный паллиум, покрыл город от Авинтина до Ватикана. Повсюду горели огни. Слышались вопли и плач, топот множества ног и звон оружия, в переулках металось испуганное эхо и отголоски кровопролития.
У обочин валялись изуродованные тела в порванных туниках. Мелькнули черные сандалии сенатора. Он сидел, привалившись к желтой стене дома, похожий на пьяного, с распахнутыми глазами и порванной шеей. Грязная тога задралась, бесстыдно обнажая ноги мертвеца. Вокруг стонали раненые, зажимая руками кровь, их протяжные крики не тревожили молчания убитых. Причитали женщины…
Кони наскочили на мертвых, лежащих посреди улицы, и шарахнулись, едва не опрокинув цизий. Это были преторианцы, растерзанные, оборванные. Над их трупами надругалась толпа. Рукоять меча с обломанным лезвием блестела в свете красных фонарей…
– О, боги! Адонис! Что они хотят? – воскликнула Юлия.
– Им наскучил прежний тиран, и они требуют нового, – печально ответил сириец.
Они ехали быстро. Сарматы с обнаженными мечами плотно окружили цизий и повозки, запряженные черными лошадьми, гривы которых летели, как флаги. Порывы ветра били в лицо Юлии, охлаждая немые слезы, которых она не замечала. Они ни на что не обращали внимания, Адонис гнал лошадей, желая одного – поскорее покинуть Рим, где Юлия подвергалась опасности, Рим, блудницей раскинувшийся на семи холмах, раскрыв свои недра, увенчав золотые горбы массивами великолепных зданий и омыв свои стопы в грязных водах Тибра – желтых, с кровавыми пятнами, с бесконечными берегами.
Повозки вылетели к форуму и понеслись по Широкой улице, оставляя позади крики и кровь Вечного города. Они видели неосвещенные переулки, что кишели людьми… Центурии преторианцев шли прямым углом, ударяя короткими мечами о щиты, от них беспорядочно бежали люди в туниках, синтесисах, тогах… Мелькали жрецы, понтифики в колпаках, луперки. Фециалы что-то кричали, потрясая пучками вербены, салии – хранители священных щитов, пели непонятную песнь, гарусники поднимали руки к мрачному небу, сжимая оливковые ветви…
Сердце Юлии колотилось. Она бросила взгляд на Адониса, и он улыбнулся ей абсолютно чистой, ясной улыбкой, которая ее ошеломила. Он был красив, красив как Гор, как латинское небо, как лунный камень. Он был нестерпимо красив, этот юноша, набирающий мужскую силу. Он глядел на Юлию с прежней трогательной любовью несмотря на царивший кругом хаос и кровопролитие, и эта минута стала для нее откровением. Казалось, что прекрасный эфеб уже видел Арицию, где они были счастливы вдвоем. И Юлия теперь страдала от страшной раздвоенности, от необходимости любить двух мужчин, не испытывая страсти к единой личности.
Он отвернулся, погоняя лошадей, а Юлия склонилась к его темному профилю:
– Адонис, милый, – произнесла она. – Я стану звать тебя Эпафродий, что значит счастливый. И да покровительствует тебе Афродита!
Залитая огнями Широкая улица пересекала улицу Фламия. Беглецы миновали страшный и гулкий массив арки Корнелия Суллы, продвигаясь вглубь улицы, от которой, как от ствола, росли никогда не освещаемые, с мокрыми деревянными тротуарами, переулки.
Внезапно нахлынула вооруженная толпа, рабыни в ужасе закричали… Сарматы плотным кольцом окружили повозки; кони, испуганные ревущей людской лавиной, хрипели… В похожем на кишку переулке было тесно, всадники рубили плечи и руки нападавших, раненые кони ржали и вставали на дыбы, втягивая ноздрями запах свежей крови. Ярость борьбы охватила сарматов, горячих и агрессивных, они рубили налево и направо, не разбирая во мраке лиц, видя только белые пятна одежд. Кони бешено крутились, задирая узкие морды и перебирая тонкими нервными ногами…
Толпа прибывала. Римляне были вооружены кинжалами и пиками, мелькали мечи. Всадников стали теснить к глухим стенам домов. Их кони падали, истекая кровью, и солдат пронзали десятки копий. Бледная, безмолвная Юлия сидела в высоком цизии, с ужасом наблюдая побоище. Кони рвали упряжь… Адонис попытался прорваться сквозь толпу: грозными криками он побуждал лошадей вклиниваться в людской поток… Какой-то плебей схватил Юлию и стал тащить с повозки. На ее крик резко обернулся всадник и взмахом клинка отсек голову нечестивца. Она, как мяч, упала на колени патрицианки, забрызгивая все вокруг кровью из свисаюшей артерии…
Сириец схватил голову за волосы и метнул в толпу. Он прижал к себе женщину, что-то бессвязно шепча ей в утешение, и покрыл ее краем своего паллиума. Но было поздно. Среди нападавших раздался крик:
– Граждане! Смотрите на эту матрону! Я узнал ее! Это блудница из Ариции, любовница Флавия!
Десятки рук схватили рвущихся лошадей и потянулись к повозке.
– Убить! – кричали в толпе. – Убить блудницу! Она предавалась разврату с ненавистным Флавием! Смерть! Смерть!
Чья-то грубая рука вцепилась в плечо Юлии, срывая паллу, и она громко вскрикнула. Это разъярило сирийца, забывшего всю свою нежность. Он встал во весь рост и выхватил из-за пояса длинный нож…
С оглушительным топотом коней мчались турмы через Мульвиев мост, мелькая в отраженных арках, извивающихся в волнах Тибра, по которым уже плыли мертвецы, раскинувшись белыми крестами. Впереди скакал их молодой претор с обнаженным мечом, в панцире, обрисовывающем грудь, в развевающейся хламиде. Всадники выступили из лагеря с тем, чтобы помочь когортам преторианцев подавить мятеж. Тревирская конница должна была укротить чернь и к началу четвертой стражи покинуть долины и широкие склоны города. Юлий не хотел, чтобы дневной Рим видел его воинов.

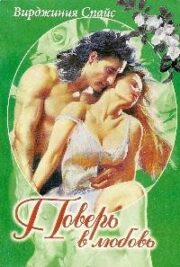
"Роковые цветы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковые цветы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковые цветы" друзьям в соцсетях.