Все встало на свои места. Он всегда знал — Елизавета была влюблена в Клемента, но до сих пор ему не приходило в голову, что тот мог быть отцом ее ребенка. Он бешено метался по саду, его разрывала жалость к слишком легковерной Мег, имевшей несчастье выйти замуж за лжеца. Он чувствовал непонятное постыдное возбуждение при неисчерпаемых возможностях, которые давало это открытие. Как унизительно для нее было все узнать, думал он, тяжело шагая по дорожке. Как, должно быть, она ненавидит своего мужа. Как оскорблена Елизаветой. Такая честная женщина, как Мег, ни за что не дотронется до человека, столь подло ее предавшего. Ничего удивительного, что она ходила в церковь такая грустная. Ничего удивительного, что ее брак после рождения первого ребенка оставался бесплодным.
Когда он тихонько вернулся в дом, от негодования у него все еще кружилась голова. Не привлекая внимания, он осторожно поднялся к себе, словно опасаясь шумом потревожить еще какие-нибудь семейные тайны. Теперь он не мог писать Мег и Елизавету как прежде. Открытие внесло дополнительный смысл в его картину, изображающую бесплодное тщеславие. Все та же история; все та же неумолимая судьба. Не отдавая себе полностью отчета в своих действиях, Гольбейн передвинул их влево. Мег теперь потерянно стояла с самого края и держала в руках книгу с чистыми страницами, а коварная Елизавета, вытеснив ее, решительно снимала перчатку и через весь зал многозначительно смотрела на призрачного Джона.
Получилось. Это обогатило картину. Две женщины — воплощенное разногласие и дисгармония — стали прекрасным контрастом к счастливым, обменявшимся рукавами сестрам, сидевшим в противоположном углу. Стремясь усилить дисгармонию, он пририсовал на буфете позади Мег и Елизаветы перевернутую лютню. Рядом с ней между головами женщин он поставил тарелку. Еще один-французский каламбур. «Pas dans la même assiette» означало «на ножах», «не в ладах», но буквально — «не в одной тарелке».
Как еще усилить свою мысль? Он добавил книги. На буфет возле Мег он положил «Утешение философией» Боэция, а предательница Елизавета со злой иронией зажала под мышкой «Epistolae Morales» Сенеки. Он остановился, почесал голову, раздумывая, что еще можно сделать, и понял, что, кажется, закончил картину. Ганс чувствовал себя разбитым. Осторожно налил в баночки воду и масло и начал медленно мыть кисти. Он не хотел есть, не хотел пить, не хотел больше думать. Ганс не хотел даже спать. Он хотел одного — чтобы приехала Мег.
Последняя в этот день небольшая кавалькада из лошадей и пони прибыла к заходу солнца — молодой Джон, его жена Анна, впереди трое их детей, а за ними Мег и ее маленький Томми. Гольбейн ждал их в саду под шелковицей, посаженной Маргаритой Ропер в честь отца, и терпеливо наблюдал, как удлиняются тени.
Остальные, услышав конский топот и храп и скрип кожаных седел, высыпали из дома встретить родных. Гольбейн сделал все, чтобы первым пробиться к Мег, так что именно за него ухватились ее усталые руки, покрытые простой коричневой шерстяной тканью, когда она наконец-то спустилась на землю. Он стоял перед ней и от радости, что снова видит любимое лицо, забыл убрать руку с ее пояса. Робкую улыбку и взгляд из-под ресниц он счел достаточным вознаграждением за приезд сюда. Мег рассмеялась и, ловко высвободившись, отступила назад.
— Рада вас видеть, — сказала она, прежде чем обратиться к своему сонному сыну с орлиным носом Джона Клемента, с трудом удерживавшемуся на пони позади нее. — Давай, Томми.
И протянув руки, она помогла ему спуститься. В ней появилась какая-то новая застенчивость, думал он, по-хозяйски шагая за ними к дому, но глаза сияют, как будто он дал ей надежду на спасение, о чем она и не мечтала. И это исполнило его воодушевления, которое он не осмеливался назвать по имени. У Гольбейна не хватило духу попытаться овладеть ее вниманием, пока не закончились все приветствия и объятия. Он стоял в стороне, не отрывая от нее взгляда. Сердце так бухало в груди, его так переполняли чувства, что он почти не дышал и старался лишь согнать с лица выражение дурацкого обожания. Наконец она обняла последнего родственника и подошла к нему. Ее лицо светилось счастьем.
— Как прежде, правда? — сказала она. А затем, более пристально посмотрев на него, добавила: — Вы так тихо стоите здесь в углу, мастер Ганс.
Он не знал, что ответить. Он все еще не дышал, но ему уже было все равно, как это смотрится со стороны.
— О! — Он смущенно не поднимал взгляда с ее рук, поскольку не осмеливался посмотреть в глаза. — Я работал. Вы же знаете, как это бывает. Думаю, просто устал.
Но при этом у него было такое чувство, будто он вообще никогда не сможет заснуть.
— Маргарита сказала, вы начали все сначала. — Мег не отводила от него взгляда. — Мне так хочется посмотреть.
«Может, взять сейчас и показать? — с надеждой подумал он. — Побыть с ней наедине?» Но почти сразу же отбросил заманчивую мысль. Она не пойдет. Ей нужно побыть с родными.
— Я сделал уже довольно много. И думал… завтра утром нужно отдохнуть. Сделать паузу. Теперь, когда вы приехали…
Или он слишком поторопился с приглашением? Она опустила глаза. Бросив испуганный взгляд на ее лицо, он увидел его совсем близко, но воспринял только слабый румянец, так красивший ее, и едва заметное движение подбородка. Он не мог поверить, но она кивала.
— Уилл сказал, в этом году огромный урожай яблок. — Она говорила спокойно, легко. — А Цецилия жалуется, что вы не выходили из комнаты с самого приезда. Вам, пожалуй, нужен свежий воздух. Мы могли бы собрать немного яблок. Вернемся к обеду. Возьмем у Маргариты корзины. Я сейчас попрошу ее.
Она улыбнулась, на секунду заглянув ему в глаза, и упорхнула к сестрам. Гольбейн лег спать, не чувствуя своего тела. Завтра он проведет с ней много часов, будет сидеть на яблоневой ветке и восхищаться сухими травинками у нее на юбке и золотым солнечным светом в волосах. Он заснул с улыбкой, уже слыша пьянящее жужжание ос и ощущая терпкий запах упавших яблок.
Я проснулась счастливая, как деревенская девчонка. Чистый утренний свет падал в окно, на улице кто-то насвистывал. Я выглянула в окно и увидела под шелковицей мастера Ганса. Рядом с ним стояли корзины. Наверное, он уже видел хлеб, сыр и бутылки с элем, которые я попросила у Маргариты. При желании мы сможем пробыть там целый день.
— Уже иду! — крикнула я, и радость вспыхнула на его поднятом кверху лице.
Я вприпрыжку побежала к нему по лестнице. С мастером Гансом все так просто, так ясно. Мне хотелось побыть наедине с другом, болтая обо всем, что только взбредет в голову.
По-августовски жаркий день, казалось, никогда не начнется. Ни ветерка, только сонное жужжание насекомых и птичье пение. Тени еще оставались длинными, Мег и мастер Ганс еще робели. Они шли по росистой траве и собирали сбитые ветром яблоки. Многие оказались подпорченными и червивыми, бока, которыми они лежали на земле, потемнели. Большими сильными руками Гольбейн начал пригибать ветви и стряхивать спелые плоды. Он чувствовал ее взгляд, кряхтел от усилий, а вокруг падали яблоки.
— Яблочный дождь! — воскликнула она совсем по-детски, игриво, такого он за ней не помнил; а когда на нее упало яблоко, возмущенно вскрикнула: — Ого!
Он, запыхавшись, остановился и засмеялся, радостно глядя, как она трет голову. Мег присела на корточки, сняла башмаки, подоткнула юбки и забралась на дерево. Он смотрел на ее голые ступни на нижней ветке и был счастлив. Теперь яблочный дождь посыпался на него, и ему пришлось прикрыть голову.
— Вот вам! — шутливо крикнула она, когда он побежал собирать упавшие плоды.
Он мог бы идти так целый день, но они наполнили корзины всего за час, солнце еще даже не добралось до зенита. Он с сомнением посмотрел на нее. Неужели она сейчас скажет, что нужно возвращаться? Но Мег улыбнулась.
— Может, поедим? — спросила она.
Сидя на пахучей траве, она нарезала сыр и подала ему пиво. Гольбейн, прихлебывая его большими глотками прямо из бутылки, принялся рассказывать ей о Базеле, где верх взяли протестанты.
— Они оказались фанатиками и бездельниками. — Принявшись за третий большой ломоть хлеба с сыром, он заметил — она смотрит на него из-под ресниц.
— С вами так легко, мастер Ганс. — Может, она над ним смеется, подумал Гольбейн, смутился и положил хлеб на траву. Может, он слишком жадно ест? — Не смущайтесь. — Она обняла колени руками. Из-под юбки торчали пальцы ног. — Я говорю серьезно. Вы даете людям счастье. Посмотрите на отца. Он просто… — Она опустила глаза и, подыскивая нужное слово, повозила ногами по траве. — Он так ободрился с вами, даже помолодел. Он совсем не такой, как с нами, понимаете? Мне кажется, вы родственные души.
Он вспыхнул, но сердце захлестнула волна робкой гордости.
— О, какое счастье… — пробормотал он. Она была такой красивой и счастливой. Вокруг пели птицы, а позади нее на ветру покачивался клевер. Забыв про лежавший на граве хлеб, он перебрался к ней поближе и тоже обхватил колени руками. — Мне очень нравится ваш мальчик. — Гольбейн пытался как можно осторожнее вызнать, каково ей замужем за Джоном Клементом. — Томми. Теперь вам все известно про счастье.
— М-м-м, — промычала она и опустила голову, словно отгоняя неприятные мысли. — Вы были правы тогда, давно. Дети, безусловно, самое лучшее, чего можно ожидать от жизни. — И она натужно засмеялась. — Правда, замужество не такая простая штука, как мне казалось. Когда минует первая счастливая пора. — Он не знал даже, как вздохнуть, не говоря уже о том, что сказать, и просто продолжал смотреть на нее сквозь легкую золотую дымку. — Но мы все через это проходим, — прибавила она, как будто жалея о сказанном. Он решил, что она не хочет больше разговаривать. Как бы меняя тему, она потянулась, легла на мягкую примятую траву и стала смотреть в синее небо. — Так жарко. Чудесный день.

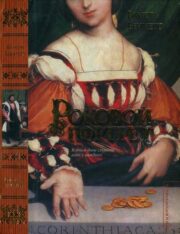
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.