Когда старик выходил, его походка напомнила Гольбейну ту крысу. Удивительно, как быстро несколько монет перекрыли поток всех ламентаций по поводу Страшного суда, подумал он. В Лондоне за четырнадцать дней произошло четырнадцать самоубийств. Из Темзы вытащили двух гигантских рыб. Два священника церкви Всех Святых на Бред-стрит подрались у алтаря, да так, что кровь забрызгала антиминс. После этого церковь закрыли, а их обоих заключили под стражу. Все эти ужасы он узнал меньше чем за час. Все только качали головами, многозначительно переглядывались, поджимали губы и говорили:
— Грядут страшные времена. Да-а. И меня это не удивляет. Следующей весной полторы тысячи лет, как распяли Христа. Вот Бог и гневается и карает нас за грехи. Сурово карает. Ничего странного, если учесть, что тут творится.
Лучше уж жить без ночного горшка и посуды, чем постоянно выслушивать такое. Но Гольбейн надеялся, что, когда он обживется и начнет регулярно получать деньги, старик забудет про свой Апокалипсис и повеселеет. У художника хватало проблем и без конца света.
Но старик не успокоился. Гольбейн слышал из своей комнаты, как он ворчит на запуганного, похожего на кролика мальчишку, служившего у него на побегушках. Каждый день случалось что-нибудь новенькое, и фантастические истории передавали со смесью ужаса и удовольствия. Картезианцы видели над своим монастырем огромный красный шар. Каждую ночь кто-нибудь наблюдал в небе комету. Кто-то обнаружил в камине конскую голову. Рассказывали про пылающий меч и синий крест над луной. Приверженцы старой веры все время крестились. Но в этом доме не крестились, считая крестное знамение суеверием. Гольбейн ко всему относился с иронией. Он считал тайных лютеран такими же суеверными фанатиками, как и старомодных католиков, почитающих королеву Екатерину. Те только и толковали про «святую кентскую деву», якобы имевшую беседу с королем и пытавшуюся отговорить его жениться на шлюхе. «Если ты это сделаешь, то просидишь на троне не больше месяца, — передавали ее слова. — А в глазах Бога не будешь королем и месяца. Ни одного часа. И умрешь лютой смертью».
Гольбейн уже несколько недель еженощно слышал подобные россказни в пивной (он вернулся в Лондон прошлой весной и собирался писать портреты обитателей Стил-Ярда). А осенью Генрих отправился во Францию на встречу с французским королем и взял с собой Анну Болейн. Он надеялся, тот уговорит папу признать развод. По дороге Генрих и Анна остановились в Кентербери и гуляли по саду. Так что «святая дева» (хозяин Гольбейна называл ее «безумной монашкой», всякий раз негодующе посапывая) вполне могла проскользнуть в сад из часовни, где в присутствии рукоположенных любовников, ловивших каждое ее слово, доводила себя до состояния транса.
— Может быть, это все моя немецкая тупость, но я от нее в восторге, — как-то вечером сказал Гольбейн старику, пытаясь заставить его иначе, более здраво взглянуть на вещи. — Элизабет Бартон. Монахиня. Конечно, никакая она не святая. До всех этих видений — обычная кухарка. А теперь посмотрите на нее. Мы ведь только о ней и говорим. Она стала знаменитой, ей ничего больше не нужно делать. Епископ Фишер плачет, слушая ее, поскольку полагает, будто слышит голос Бога. Неплохой доход с пары пророчеств.
Но старик лишь посмотрел на него с отвращением. Он ничего не имел против повторного брака короля, если правительство перестанет гонять еретиков и он сможет ходить на молитвенные собрания к Дейви, не опасаясь ареста и казни.
— Она такая же сумасшедшая, как и все они, эта Бартон, — презрительно сказал он. — И такое же зло. Она образ грядущего. Сжигать надо таких, как она.
Напуганный, похожий на кролика мальчишка, забившись в угол, засучил ногами, завозил кружкой по полу и, кажется, испугался еще больше. Гольбейну потребовалось довольно долгое время, чтобы понять — лондонцами овладел такой же страх, как в свое время и базельцами. Единственная разница заключалась в том, что здесь еще не знали, чем все кончится. Но все боялись. У кого-то от страха болел живот, у кого-то мурашки шли по коже, кто-то нервозно всматривался в прохожих. На всех надвигался животный ужас.
Сидя по ночам в своей комнате, слушая, как скребутся крысы, а старик бормочет про Мерлина, серых коров и бог знает что еще, при свете единственной свечи пытаясь подготовиться к завтрашним сеансам, он много думал про страх. Не потому, что его беспокоили уличные бредни про Апокалипсис. Об этом говорили везде. Но страх отпечатался и на лицах ганзейских купцов, которых он писал за высокими стенами Стил-Ярда. На сильном лице Георга Гисце, чей портрет Гольбейн только что закончил, страх не был заметен, но художник знал — Гисце тоже боится. Он намеренно не передал это на холсте: не хотел наводить на мысль, что купец провозит в Англию запрещенные книги и знает, что ему грозит в случае ареста.
Как бы поговорить с людьми, не знавшими страха. Но таких крайне мало. Кроме Кратцера, он за прошедший год видел всего двоих. Одним из них был Томас Болейн, теперь граф Уилтшир, отец Анны, гуманист, корреспондент Эразма. Ему Гольбейн привез книгу старого мыслителя. Его веселое лицо напоминало ребенка, ожидающего подарка и знающего, что получит его. Вторым являлся враг и тезка Томаса Мора Томас Кромвель с узкими, внимательно смотревшими на мир глазами. Его влияние в королевском окружении усиливалось. Он ничего не боялся. Он хотел стать советником короля, даже если бы для этого ему пришлось уничтожить половину Англии и собственными руками разорвать Мора. Именно о Море он и заговорил сразу, по-уличному грубо, когда Гольбейн по рекомендации Уилтшира явился к нему с визитом в надежде получить заказ.
— Да. Гольбейн. Я вас помню. Вы ведь писали Мора, не так ли?
И его глаза цвета мерцающего ила Темзы так сверкнули, что Гольбейн испугался: может, его имя уже стоит в списке тех, кого предполагалось подвергнуть допросам? Гольбейн поднял голову, не отвел взгляда и твердо ответил:
— Да.
— И вы виделись с ним после возвращения?
— Нет.
Кромвель похлопал его по плечу:
— Мудро. Не самое лучшее знакомство в наши дни.
И Гольбейн спокойно улыбнулся, как будто соглашаясь. Он не чувствовал угрызений совести, хотя теперь, когда удача повернулась к нему лицом, он из трусости не нанес визита благодетелю. Художник не считал себя человеком, которого легко запугать, но все же ему было не по себе. И ежедневные страшные истории хозяина начали его раздражать. Он как мог высмеивал бредни старого дурака и его уговоры сходить к фанатикам в подвал Дейви. Но в то же самое время поглядывал на небо, высматривая комету. И это ему не нравилось.
— Вам следовало остаться у меня, — говорил Кратцер за кружкой пива в теплой гостиной, где на почетном месте над камином висел его портрет работы Гольбейна. Художник поместил ученого в правую часть картины, откуда он серьезно рассматривал астрономические приборы. Они отмечали окончание Гольбейном работы над его самым крупным заказом в длинном деревянном банкетном зале Стил-Ярда. Он воплотил в образы купеческий девиз: «Золото — отец обмана и дитя печали; тот, кому его не хватает, печален; тот, у кого оно есть, всегда тревожен». Одна из двух огромных картин изображала триумф богатства, другая — триумф бедности. Пока Гольбейн работал, Кратцер частенько заходил к нему, болтал без умолку, что-то без конца советовал, фонтанировал идеями, кипел энергией, приносил своему ближайшему другу еду и эль. — Я не понимаю, как вы можете жить в такой мерзкой дыре. Ваш хозяин не так уж и не прав: небеса действительно полны предзнаменований. Иногда, глядя на звезды, я тоже думаю, что надвигается конец света. Но даже не в этом дело. Там крысы, Бог мой. Блохи. Клопы. Выдохшийся эль. И черствый хлеб.
— На все можно смотреть с разных сторон, — менторским тоном сказал Гольбейн и покачал головой (он уже немало выпил). — С одной стороны, верно, не самая роскошная квартира. С другой…
— Что? — перебил Кратцер, чье грубоватое лицо исказил сарказм. — Что с другой стороны?
— Ну, скажем, — ответил художник, наливая Кратцеру еще пива, — есть обстоятельства, которые меня там устраивают.
Он не мог назвать ученому эти обстоятельства. Он никому не мог их назвать. Его состояние сродни болезни — слишком интимной и постыдной, чтобы о ней рассказывать.
Он думал об этом в тесных убогих комнатках ночи напролет, ворочался и не мог уснуть. Он думал об этом, откидывая грубые одеяла и вставая с пыльного соломенного тюфяка, почесываясь и потирая глаза. Он думал об этом, когда с удовольствием плескался на дворе в холодной воде, оттирая перепачканные краской руки. Он мечтал об этом каждую минуту каждый день, пока не почувствовал — голова его скоро лопнет. Он совершал утренние прогулки по тихим улочкам, стараясь выбирать дорогу, не вызывавшую никаких подозрений, где, огибая углы и пытаясь схорониться от людских глаз, он мог попытаться обмануть даже себя.
Его ежедневный маршрут пролегал к сточной канаве в пятидесяти шагах от входа в церковь Святого Стефана на Уолбрук, куда ему нужно было поспеть вовремя, чтобы увидеть, как она перебегает через дорогу из дома и с опущенными глазами входит в храм. Она. Мег. Мистрис Мег Клемент. (Вспоминая ее новое имя, он всегда вздрагивал, но все-таки упорствовал, пытаясь сохранить способность осознавать реальность.) Затем он долго ждал, делая вид, будто отдыхает, или бродил вокруг, пытаясь согреться, рассматривая лотки уличных торговцев и насвистывая что-то себе под нос. А потом она выходила в облаке ладана с маленьким темноволосым мальчиком и щурилась на солнце. Этот второй раз он тоже видел ее всего несколько секунд. А затем проделывал тот же путь обратно, возвращаясь в свою конуру.
От такой жизни он чувствовал себя грязным. Он приходил в ужас от того, в кого превратился. Он рыскал по городу, как хозяин его вонючей квартирки; со стороны его можно принять за насильника, бесчестящего во дворах юных девушек, или вора, который вспарывает карманы и режет стариков. Но эти несколько секунд каждое утро доставляли ему такую радость, что и думать нечего отказаться от них.

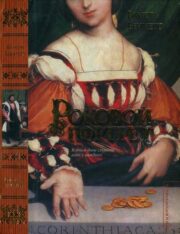
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.