Маргарита только рассмеялась в ответ на мой вопрос.
— О Господи, нет, — ласково сказала она, положив руки на живот, уже округлившийся следующим ребенком. — Сказать тебе правду, Мег, мне стало намного легче, когда я покинула тепличную обстановку, созданную вокруг меня отцом. Вся эта одержимость… нет, я ничуть по ней не скучаю.
— Не скучаешь по тем разговорам, когда друзья отца пытались добраться до самой сути обсуждаемых ими вопросов? — расстроенно настаивала я. — Не чувствуешь, что мы стали как бы второго сорта, выйдя замуж за тех, кто так не может?
Она мягко улыбнулась. Покинув Челси и переехав в дом Уилла в Эшере, она перестала вести себя как самая образованная женщина Англии. Зато как же похорошела. Просто светилась счастьем. Маргарита покачала головой.
— Я люблю Уилла, какой бы он ни был недотепа. — Она ни в чем не сомневалась и ничуть не обиделась на мой вопрос. — Конечно, я люблю и отца, но это же невозможно, — добавила она, видя, что все еще не убедила меня. — Постоянно в плену идей… некогда поесть… сидит по ночам в Новом Корпусе и пишет… дом заполонили какие-то священники, подопечные, в конечном итоге остающиеся на годы. Алиса с ума сходит от отчаяния, хотя и умеет это скрывать. Она не может распоряжаться ни своим мужем, ни своим домом. Это ли жизнь хозяйки и жены?!
Если честно, Мег, мне бы больше всего хотелось, чтобы Уилл, как Джон, нашел какого-нибудь милого разумного нового учителя, которым бы и восхищался. Желательно за границей, чтобы ограничить контакты перепиской. Уилл слишком много времени проводит с отцом, боготворит его. А мне бы хотелось, чтобы он побольше бывал с нами в Эшере и мне не приходилось таскаться с детьми в Лондон или Челси.
Я просто мечтаю устроить красивый-красивый сад в Уэлл-Холле. — При мысли об этом ее глаза засверкали. — Где детям хорошо бы игралось. И еще, чтобы Уилл гулял в нашем саду, а не слонялся бог знает где, обдумывая последние мысли отца.
Маргарита нежно засмеялась. Она говорила правду. Как бы я хотела иметь ее дар быть довольной тем, что имеешь.
Его принесли к воротам церкви и позвали меня. Уже наступил декабрь, и стоял тот неприятный бесснежный холод, который превращает землю в железо и замораживает птиц на голых деревьях. Пройдя десять шагов по мостовой, я успела продрогнуть даже в наброшенном пальто.
Их было двое: приличные женщины в непонятной одежде из серой шерсти. Одна, судя по комплекции и походке, примерно моего возраста; другая могла бы быть ее матерью, но сейчас от боли обе превратились в безвозрастных привидений, ведьм-близнецов. Еще толком не рассвело; людей почти не было. Скорее всего женщинам пришлось ждать. Полоумный Дейви, прежде чем постучать ко мне, наверняка хотел быть уверен, что отец и Джон ушли. Он даже не улыбался, просто указал большим пальцем на женщин и исчез.
— Он сказал, вы разбираетесь в травах. — Голос молодой женщины дрожал. — Вы можете что-нибудь сделать, миссис?
И она указала на кучу тряпок размером с человека, лежавшую у порога. Женщина тяжело дышала, руки прятала в накинутом одеяле, а в распухших и покрасневших от слез глазах умирала надежда. Та, что постарше, молчала. Она как-то урывками захватывала ртом воздух и держалась за бока. Ее лицо даже на таком холоде — от страха или напряжения — побагровело, говорить она не могла. У меня сложилось впечатление, что они тащили его сами.
Он, конечно, умирал. Это я поняла по их лицам. Я велела отнести его в тихую сухую каморку возле конюшен, где увидела местных жителей, иногда просивших у меня лекарства. (Наверное, кто-то из них слышал, что во время потной болезни я ходила за несчастными, и люди поверили — я могу ставить припарки и перевязывать раны.) Когда носильщики, пыхтя и отдуваясь, ушли, я откинула одеяло. Таких страшных ран, как у закутанного в него человека, я не видела никогда. Я даже не могла себе представить подобные увечья. Несколько мгновений я лишь смотрела и думала, что меня сейчас стошнит. Несомненно, его терзали систематически. Голова болталась словно на ниточке; торс раздавлен; руки сломаны точно по запястьям и локтям; ноги — над щиколотками и коленями. Тело представляло собой месиво из торчащих ребер, покореженного хребта и крупных темных сине-красных вздутий. Из заднего прохода и ушей шла кровь, раздавленные губы покрылись белесой коростой и запекшейся кровью. Глаза, нос почти не выделялись на фоне кровавой лужи. Но он был жив и издавал слабые стоны.
— Я могу промыть раны, — прошептала я, придя в ужас от немыслимых зверств. Они увидели мое лицо, и последние искры надежды в их глазах погасли. — Могу удобно положить… дать маковый настой. Может, позвать священника?
Они переглянулись, посмотрели по сторонам и заметались, словно оказавшись в ловушке. Затем покачали головами, будто от кого-то защищаясь, прижались друг к другу и придвинулись поближе к нему, загородив его от меня, как если бы я вдруг стала частью их беды.
— Тогда я промою, — прошептала я, пытаясь их успокоить.
Из ближайшей конюшни я сама принесла ведро воды, которой поили лошадей. Голова гнедой над барьером повернулась мне вслед. В ее влажных глазах застыло легкое любопытство, а из ноздрей, как и у меня изо рта, поднимались клубы пара. Когда я вернулась с ведром, разбрызгивая на ходу воду, женщины сидели возле мужчины, снова загородив его спинами, и что-то шептали. При моем приближении они шарахнулись в сторону и умолкли. Но я расслышала последнее слово — «аминь».
Когда я подходила к развороченному, булькающему телу, у меня тряслись руки. Я не хотела навредить, откровенно боясь его страшных ран. Но едва я дотронулась уголком полотенца до лица, губы и щелочки глаз приоткрылись. Он произнес несколько слов — или звуков, которые могли бы быть словами, если бы рот не был так изуродован. Женщины снова бросились к нему. Дрожь прошла по его телу, и он замер. Из ушей и рта вылезали пузыри густой крови. Белые облачка, поднимавшиеся от лица, рассеялись.
— Он умер, — сказала молодая женщина.
Белые губы, неожиданно громкий ровный голос. Она обернулась ко мне с некоторой угрозой, как бы приказывая либо молчать, либо возразить ей. Когда я кивнула, она пошатнулась, подошла к нему, протянула руку и дотронулась до окровавленного лба. Ей пришлось нести тяжелое тело, и теперь ее ладонь была почти так же расцарапана, блестела и кровоточила, как и его лицо. Она коснулась распухших щелочек-глаз, словно хотела, чтобы он выглядел спящим, но закрыть их оказалось невозможно. Женщина постарше тоже подошла к телу, нагнулась и поцеловала лоб.
— Мой Марк. — Она распрямилась.
Ни слезинки. Очевидно, это его мать.
— Вы знаете… что случилось? — прошептала я, до мозга костей продрогнув от смерти, подавленного гнева и горя женщин.
Та, что помоложе, обернулась ко мне, и на лице ее отразилась какая-то даже жалость, а может быть, презрение.
— А вы разве не знаете, миссис? — спросила она. — Так-таки и не знаете? — Я покачала головой, но она мне не поверила. — Тогда вам стоит заглянуть к нам, — продолжила она на пределе громкости и грубости. — У нас этого добра полно. — Ее взгляд стал жестче; что-то в ней изменилось. Она засмеялась, точнее, залаяла. — Действительно не знаете? Так ведь его раздавила Скеффингтонова дочурка. Что, не верится? — И поскольку я не отвечала, а только изумленно смотрела на нее, она отвернулась и пробормотала: — Спросите своего отца. Уж он-то знает.
От ее слов у меня мурашки побежали по коже, но я подумала, может, она так говорит из-за того, что я не смогла спасти ее брата. Я положила руку на плечо матери. Оно дрожало.
— Вы хотите похоронить его здесь? — спросила я. Мать покачала головой. Говорить она не могла, но, изо всех сил пытаясь не дать вырваться своему горю, наотрез отказывалась от похорон в церкви Святого Стефана. — Я могу дать вам денег? — Она еще раз отрицательно покачала головой. — Позвольте, я велю отнести его к вашему дому? — Она сначала кивнула, но затем опять замотала головой.
Потом она закрыла грубыми руками сухие глаза и какое-то время стояла так в раздумье. Я вспомнила — они не хотели звать священника, не хотели последнего причастия. Значит, не захотят и католических похорон. До меня медленно начинало доходить. По всей видимости, они еретики. Должно быть, его пытали и вышвырнули на улицу. Его пытали, заставляя выдать свою семью. Вероятно, им опасно показываться дома. Мать не знала, куда идти.
— Мы возьмем его с собой, — сказала она наконец, решительно распрямляя плечи и прилаживаясь к грузу.
Спорить с ней было бесполезно. Она знала, на что идет. Я могла лишь попытаться облегчить им физическую боль.
— Сначала вам нужно перевязать руки, — проговорила я твердо. — Так вы его не донесете.
И прежде чем она успела мне возразить, я почти бегом бросилась по двору, на кухню, даже не взглянув на кормилицу, мирно укачивавшую маленького Томми у камина. Гоня от себя черные мысли о том, что будет, если кто-то перенесет его к моей двери в таком состоянии, я бросилась в кладовку, схватила два ломтя сыра, зажала его булками, завернула их в какую-то тряпку, взяла бутылку слабого пива и самых чистых тряпок для перевязки ран. Когда я зашла в кабинет за успокоительной мазью, у меня уже не хватало рук, но я боялась, что женщины уйдут.
Они, однако, ждали, неотрывно глядя на погибшего сына и брата, или кем он им там приходился. Их нездешние лица не изменили выражения. Они снова закутали его в одеяло — теперь оно уже служило саваном, — как будто там, куда он направлялся, требовалось тепло. Они позволили промыть им руки, втереть мазь и перевязать раны разодранными на полоски тряпками. Порезы и волдыри исчезли под чистыми, теплыми, белыми повязками. Они смотрели, как я укладываю еду в узел, чтобы его можно было закинуть за спину. Старшая женщина даже заглянула мне в глаза.

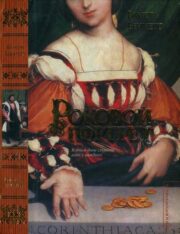
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.