Я шутливо поморщилась:
— Говорят, роды прошли легко. — Я слабо засмеялась, пытаясь говорить непринужденно. Когда носили воду и перестилали постель, я уже пыталась привести себя в порядок и знала — у меня синяки под глазами и вообще мной можно пугать детей. Но вроде никто не обращал на это внимания. Куда бы я ни посмотрела, меня встречали бодрые взгляды и приветливые улыбки. — Так зачем же возражать?
Маргарита понимающе кивнула:
— Слава Богу, что не хуже.
Я вдруг с ужасом поняла, что пришлось пережить ее худенькому телу в течение мучительных двух- и трехдневных родов, когда появлялись на свет ее дети, и крепко обняла ее в ответ.
— Спасибо, — прошептала я.
Я все еще не могла до конца поверить, что меня все любят и не ставят никаких условий.
Пока я мылась, она держала ребенка. Когда Джон привел отца с мессы, я уже сияла чистотой и пахла розами и молоком в новой, вышитой белым ночной рубашке, которую смастерила для меня Маргарита. Джон сел на кровать и обнял меня. Маргарита пододвинула поближе к кровати стул для отца. Все взоры обратились на младенца, все что-то говорили и не могли на него надивиться. А я оперлась на руку мужа, чувствуя на груди тельце ребенка и сияя от простоты жизни, где все самые важные для меня люди могли уместиться в одной комнате, где я могла бы лежать так еще много недель с маленьким Томми, прежде чем перейти через улицу в церковь и вернуться к нормальной жизни. Молчание нарушила Маргарита.
— Послушайте! — вдруг изумилась она и подошла к окну.
Мы все испуганно посмотрели на нее, поскольку она говорила громче обычного. Маргарита открыла окно.
— Не надо! — резко отозвался Джон. — Там холодный ветер.
Но она не обратила на него внимания и спросила:
— Вы слышите, что они говорят? Слышите?
Она обвела взглядом наши недоуменные лица и попыталась открыть щеколду. Наконец ее изумление передалось и Джону, он встал и всего на несколько дюймов, чтобы вся улица не оказалась у нас в комнате, открыл ей окно. Джон прислушался к гулу, вторгшемуся вместе с прохладным воздухом, и выражение его лица тоже изменилось. Прижимая маленького Томми, чтобы его согреть, я видела на правильном лице Джона изумление — изумление, смешанное с ужасом. Отец тоже вскочил и подошел к окну; я не видела его лица, только темные волосы под бархатной шапочкой. Он внимательно, напряженно слушал. Наверное, я последняя разобрала слова, доносившиеся с улицы, хотя с самого начала было понятно — это не обычные выкрики зазывал с аптекарского рынка.
— Конечно, правда! — услышала я скрипучий голос полоумного Дейви. — Алый карбункул прорвало!
Гул, веселые выкрики вперемежку с улюлюканьем. В толпе кто-то пронзительно прокричал:
— Волк!
Я была в полном недоумении.
— Клянусь всемогущим Богом!
Джон высунулся из окна и крикнул:
— Дейви! Замолчи! Ты мешаешь! Что за чушь ты несешь?
Шум на улице усилился. Люди отошли подальше, задрав головы к нашим окнам. Я будто видела их угрюмые лица. Но полоумного Дейви оказалось не так просто сбить. Он громко возмущался тупостью толпы. Я очень хорошо представляла себе его безумный торжествующий взгляд, когда он завладел вниманием почтенного свидетеля.
— И вовсе это не чушь, доктор Джон! — закричал он, и никаких сомнений не осталось. — Я только что слышал на Сент-Пол-кросс! Все на Чипсайд толкуют об этом! Пойдите послушайте сами, если мне не верите! — Для вящего эффекта он сделал паузу.
— Ну так что же? — нетерпеливо закричал Джон. — Давай валяй, дружище.
— Кардинал Уолси арестован! — раздался снизу торжествующий голос.
И на сей раз возгласы звучали скорее радостно, нежели негодующе. Лондон люто ненавидел алчного пузатого лорд-канцлера, сына пивовара, единственного из королевских подданных, кто стоял к королю ближе отца. Даже отец при всем своем многотерпении не очень уважал кардинала. При всяком упоминании его имени он приподнимал брови и криво улыбался. Джон достал из кошелька монету, бросил ее на улицу и, не сказав больше ни слова, закрыл окно. И все-таки в комнате вдруг стало холодно. Мы уставились на отца, смотревшего на нас без всякого выражения. Маргарита нарушила молчание.
— Это правда, отец? — робко спросила она, положив маленькую белую руку ему на плечо.
Посмотрев в ее лицо под скромным чепцом, он немного смягчился и кивнул.
— Кажется, король срывает свое раздражение на подданных, — сказал он, шутливо поднимая брови, как Эразм. — При всей жуликоватости кардинал оказался не в состоянии показать фокус-покус и уладить дело с разводом к удовлетворению короля.
Он замолчал. Ему больше нечего было сказать.
— Кого же король сделает теперь лорд-канцлером? — смело продолжила Маргарита.
— Маргарита, — ответил отец с легким упреком, — ты прекрасно знаешь, мне нечего тебе сказать. Мне известно одно — сегодня вечером меня ждет король. Потом я, возможно, буду знать больше. — Он никогда бы не признал, что сам метит на эту должность. — Но вот что я вам скажу. — Он встал. — Я бы с радостью согласился, чтобы меня завязали в мешок и утопили в Темзе, если бы это помогло уладить в христианском мире три обстоятельства. Если бы все монархи, ведущие войны, заключили мир… Если бы можно было уничтожить все ереси, раздирающие церковь, и сохранить религиозное единство… И если вопрос о браке короля можно было бы решить достойно.
Он откланялся. Я была уверена — его представление о достойном решении вопроса о браке короля не совпадало с таковым самого короля, но все промолчали. Мы почти не слышали его шагов по лестнице. При желании отец мог двигаться тихо, как кошка.
Позже, клохча над своими детьми и укладывая их спать, Маргарита предположила:
— Ведь его и назначат, правда?
В ее голосе звучала надежда. Затем те же самые слова я услышала от Джона, когда мы остались в комнате одни.
— Ведь его и назначат, правда? — Однако его голос звучал резко. — Умнейший человек может стать полнейшим дураком. Он сам не понимает, насколько стал придворным. Но теперь ему слишком нужна власть, он уже не в силах отказаться от этой должности и с удовольствием забудет, что король потребует от своего канцлера одного — сделать Анну Болейн королевой. Допускаю, он надеется использовать новые властные полномочия и убедить короля изменить решение. — Помню, я не очень всерьез отнеслась к словом Джона, в полудреме целуя макушку Томми. Запах его крошечной головки казался мне запахом счастья, я чувствовала острую боль во всем теле, но не обращала на нее внимания. И все-таки при следующих словах, произнесенных с твердой уверенностью, я подняла глаза. — Ничто не остановит короля в его решимости жениться на этой женщине. Чтобы понять это, достаточно всмотреться в его лицо. Чувственность у него в крови. Мудрый человек предусмотрительно остался бы в стороне от кутерьмы, устроенной Генрихом. — Джон смотрел в огонь, и, может быть, красное мерцающее пламя было виновато в том, что его черты приняли мрачное нездешнее выражение, а может быть, тяжелые мысли. — Боюсь, твой отец подлетит слишком близко к солнцу. — Кончиком сапога он дотронулся до полуистлевшего полена и пошевелил догорающие угли. Пламя зашипело, взвился пепел, часть его высыпалась на железную плиту перед камином. — И рухнет.
Глава 11
— Так напишите ей, мой мальчик, — сказал старик, облокотившись на стол с остатками обеда, к которому он едва притронулся (Гольбейн-то заправился основательно), и его освещенное свечами лицо, живее, чем у большинства молодых людей, сияло непобедимым обаянием. — Например, вы можете ей поведать, в какой восторг привела меня ваша картина.
Гольбейн не удержался и покосился на небольшую копию портрета семьи Мора, прислоненную к кувшину. Он тихо прощался с ней уже целый день. Затем вернулся к пивной кружке и, подобрав под столом ноги, упрямо покачал головой:
— Вы меня знаете. Я не писатель.
После возвращения в Базель он впервые видел Эразма. Старика напугало, что сталось с веселым свободомыслящим городом, который оставался его домом в течение восьми лет, напугали разрушения, нанесенные Базелю фанатиками-евангелистами, напугала перемена в атмосфере города, напугали опустошение, насилие, требования безудержной свободы. Поэтому сразу после того, как смутьяны в апреле добились принятия новых религиозных законов, он закутал свое тощее тело в меха и сменил Базель на мирный Фрейбург, чуть ниже по реке.
— Все испугались до смерти, когда эти подонки завалили рыночную площадь оружием и пушками, — рассказывал он молодому человеку чуть раньше.
Гольбейн понимал — Эразм никогда не сможет простить дикость толпы, разрушившей собор, расколотившей дубинами большой алебастровый алтарь и через витражные окна вышвырнувшей статуи на улицу. Ничего удивительного, что евангелистов стали называть протестантами.
— Они так измывались над образами святых и даже над распятием, что трудно было отделаться от мысли — вот-вот произойдет какое-нибудь чудо, — говорил Эразм с раздражением и презрением, которое человек, изумленный тем фактом, что его разум связан с телом из плоти и крови, естественно чувствует к грубиянам, упивающимся силой своих мускулов и способностью наводить страх при помощи разгоряченного дыхания, бешеных воплей и стиснутых кулаков.
Эразм помнил запах костров. Он никогда не сможет молиться в церкви с голыми белыми стенами. Гольбейн оплакивал отъезд старика из нового благочестивого Базеля — Базеля, принявшего Reformationsordnung[14]. Существовали и другие причины для печали. Во время драки в кабаке был убит Прози. Умер старый издатель Иоганн Фробен. Бонифаций Амербах отошел в сторону, хотя и не уехал; он теперь тоже часто заезжал во Фрейбург. Два главных покровителя Гольбейна — Якоб Майер и Ганс Оберрайд — открыто отказались исповедовать реформированную веру и потеряли места в совете. С началом беспорядков закрыли университет. Издатели подвергались строгой цензуре. Мужество покинуло почти всех людей, которых он ожидал найти в печатнях и кабаках за обсуждением мировых проблем и кружкой пива. Теперь, когда все, о чем они когда-то мечтали и что без конца обсуждали по ночам, исчезало на глазах, Базель перестал быть домом. Протестантские власти следили за общественной моралью слишком ревностно, чтобы в городе жилось радостно. В мире Гольбейна все сместилось по другой причине, но этой довольно убедительной ложью можно легко себя обманывать. И всякий раз в страшные мгновения, когда он с невольной надеждой всматривался в темноволосую женскую головку или когда душа его вспыхивала при виде любой высокой угловатой девушки, идущей по улице, он бормотал вполголоса: «Кровавые фанатики». Ведь всякий раз это оказывалась не Мег, и ответственность за изнуряющую пустоту, пожиравшую его уже столько месяцев, несли власти.

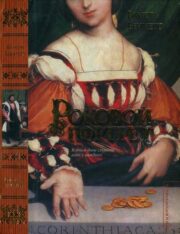
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.