— Они схватили селян из Рикменсворта! — воскликнул астроном, выдвинув нижнюю челюсть. — Их собираются повесить.
Рикменсворт находился недалеко от одной из резиденций кардинала Уолси. Лорд-канцлер с мясистым лицом, жадностью до мирской власти и ароматическими шариками, которые он все время нюхал, спасаясь от человеческой вони, стал воплощением всего дурного в церкви и государстве. (Гольбейн считал так же; обычно он смеялся над яростными кратцеровыми обличениями продажности и алчности клириков — люди, которые должны бы презирать материальные блага, жадно вырывают у крестьян последний кусок хлеба и любые крохи светской власти, — но в глубине души соглашался с ним.) Селяне не просто разделяли их неприязнь, но и пошли дальше. Уже несколько дней по Лондону ходили слухи о событиях в Рикменсворте. Его жители направились в приходскую церковь, завернули распятие в просмоленные тряпки и подожгли.
Гольбейн только пожал плечами. Что бы он там ни думал о кардинале, у него не было времени на самоубийственные дурацкие выходки вроде той, что учинили жители Рикменсворта. Ясно, какую цену они заплатят за свое бессмысленное кощунство. Зачем умирать, когда можно жить? Он начал накладывать на эскиз тени и лишь вполуха слушал возбужденного друга.
Последние полтора дня Гольбейн слонялся по дому и не мог ни на чем сосредоточиться. Он отшлифовал еще несколько деталей на семейном портрете, но вносить изменения, о которых говорил сэр Томас позавчера вечером ему не пришлось. Мор пришел к художнику на следующее утро из сада, где спасался от изнурительной жары, и тепло сказал:
— Я еще раз посмотрел вашу работу, мастер Ганс. — Гольбейн настороженно кивнул. Как он ни гордился своим полотном и эффектом, произведенным почти на всех Моров, когда они увидели себя его глазами, от его внимания не ускользнуло — сэр Томас и госпожа Алиса остались чем-то недовольны. Мор между тем мягко продолжал: — Мег расхваливала ваш талант. Она говорит, у вас дар выявлять Бога в самом простом человеческом лице. Этим утром я целый час простоял перед вашей картиной, и должен признать, что я согласен с ней. Вы создал и шедевр, и мы сохраним его навечно.
И вдруг Гольбейна снова согрело тепло этого человека, согрело и убаюкало, однако довольно быстро он понял: если Мор принимает картину, то его больше ничто не держит в Челси.
— Но, — забормотал он, — разве вы не хотите добавить на полки лютни и виолы и посадить госпожу Алису на стул? — Он видел, как Мор достал плотный кошелек — уже отсчитанное вознаграждение, — но тянул время, не желая брать его и тем самым приближать время отъезда. — Я уже набросал поправки. — Он торопливо уводил разговор в сторону, разыскивая свой блокнот.
Найдя нужную страницу, он вырвал ее и протянул заказчику, но Мор только улыбнулся и покачал головой.
— Ваша картина прекрасна в том виде, в каком существует, мастер Ганс. С моей стороны безжалостно требовать каких-то поправок. Но все же, — его улыбка блеснула озорством, — грустно думать, что плодотворное сотрудничество закончится навсегда. Мне было очень приятно беседовать с вами; приятно видеть, как расцветает ваш талант. Вы, вероятно, сами не осознаете этого. Мне нравится думать, что вскоре вы вернетесь к нам и — кто знает? — может быть, если мы не подыщем вам ничего получше, напишете и лютни. Так что, пожалуйста, оставьте мне эскиз.
Это была не просто вежливость, а доброжелательная, утонченная беседа щедрого покровителя. Но последняя. А значит, Гольбейну оставалось только вставить картину в раму, собрать вещички и уехать: работы в лучшем случае на пару дней. У него просто не было сил заняться этим. Не исключено, виновата жара, а может быть, сияющее от счастья лицо Мег, которая, отправляясь на новую работу, едва удостоила его улыбкой. Она отдалась уходу за больными со всей страстью, какую он мечтал бы испытать. У него возникло неприятное чувство, что Джон Клемент, учитель с неприятно красивым профилем, который с каждым днем нравился ему все меньше и, как он смутно подозревал, вообще был из тех, что любят поиграть девичьими чувствами, и даже влюбил в себя сестру Мег, в конце концов возьмет да и заберет ее. Нелегкое испытание и для святого!
— Так вы говорите, мы должны выразить свое сочувствие селянам и уехать из Лондона? — не очень учтиво спросил он. — Меня ждут дома жена и ребенок, которого я никогда не видел, а базельское разрешение на отъезд почти истекло. Вы тоже не можете оставаться здесь вечно. И все эти россказни, что вы сейчас слышите в Лондоне, такой же вздор, от которого мы бежали из дома. Кровавые идиоты и фанатики вцепились друг другу в глотку из-за того, как понимать Бога. Куда ни посмотри, одно уродство, а мы сидим здесь и делаем вид, будто верим во все то, во что на самом деле не верим. Честнее просто уехать. — Он засмеялся, заметив на лице Кратцера растерянность и негодование. — Но мы не уедем, не правда ли? — Он набросился на своего друга за беспринципность, хотя на самом деле разъярился на самого себя: надо же быть таким дураком, чтобы влюбиться. — Мы будем уговаривать себя, что восхищаемся Томасом Мором, у которого живем, как ни отвратительны его сожжения нашей Библии. Но в глубине души мы оба знаем правду. У нас просто не хватает мужества высказать ее. На самом деле мы здесь потому, что он нам здорово помогает. Наша карьера идет слишком хорошо, чтобы думать об отъезде.
Обиженный Кратцер беспомощно поднял руки и, тяжело ступая, пошел обратно по дорожке, со словами:
— С вами невозможно, когда вы… такой… циник. Не понимаю, что с вами происходит в последнее время.
Гольбейн тут же пожалел о сказанном. Кратцер — хороший человек и не заслужил таких обвинений.
Он опять рисовал ее лицо. По памяти. Медленно водил карандашом, как будто лаская ее (в его мастерской уже скопилось множество ее рисунков). Радовался печальной зеленой тени шелковицы. Лениво размышлял, что делать. Знал, что сделать ничего нельзя. Подштриховал глаза.
Вдруг в траве раздался шорох шагов, прерывистое дыхание (так дышат, когда плачут), и перед ним предстала Мег: бледное лицо, тонкое девичье тело, длинный нос, эти глаза. Она стремительно рванулась в тень, в своем желании спрятаться чуть не повалив его на землю. И заметив человека там, где, по ее расчетам, никого не должно быть, остановилась как вкопанная.
— Мистрис Мег. — Он так обрадовался ей, что не сразу заметил испуганные глаза на мокром от слез лице.
— О… — Она попятилась, намереваясь убежать и явно не желая вступать в разговор. — Я… — И хотела уйти.
Наконец он увидел, в каком она состоянии, и попытался удержать. Бросив блокнот, рванулся вперед и схватил ее обеими руками.
— Вы расстроены. Что случилось? В чем дело? — У нее не было сил бороться. Она ослабла в его руках. Ему казалось, если он отпустит ее, она упадет. Мег смотрела на него с каким-то неземным ужасом в глазах. Зубы стиснуты, словно она боялась, что они застучат. Гольбейн с облегчением понял — она боится не его. — Скажите, — настойчиво повторял он, чуть ли не тряся ее за плечи.
Она всхлипнула, попыталась успокоиться. У нее ничего не получилось, и беспомощные слезы опять потекли по щекам.
— О… ничего, — продолжала всхлипывать она, тщетно стараясь улыбнуться. — Ничего страшного. Это такое потрясение… Я узнала одну тайну… но через минуту все будет в порядке.
При слове «тайна» Гольбейн подумал: «Елизавета». Она поняла — Елизавета любит Джона Клемента. А может, что и похуже.
— Так вы знаете. — Он пытался говорить как можно мягче, а сам уже живо представлял, как набросится на двуличного доктора и даст ему в зубы. Ему понравилась эта мысль.
— Знаю что? — вздрогнув, прошептала она с таким недоумением, что Гольбейн готов был признаться в недоразумении.
Но не сдался. Он так долго ходил с этой мыслью, что уверился в ее истинности и не мог сопротивляться искушению сделать еще одну попытку.
— Ничего, ничего, — торопливо сказал он. — Я ничего не имел в виду. Это просто мой плохой английский, ха-ха! Но… на секунду… мне показалось, будто ваше плохое настроение как-то связано с Елизаветой…
— Елизаветой? — недоуменно повторила она, теряя интерес, и отвела взгляд. Гольбейн видел, что его слова упали в пустоту, и покраснел, так грубо опростоволосившись. — При чем тут Елизавета? — удивленно прошептала она, но ответа и не ждала. Просто выгадывала время, пытаясь побороть свои слезы.
— Тогда селяне? — безнадежно спросил он, но по ее остекленевшему взгляду тут же понял — она и понятия не имеет, о чем он говорит. — Ваш отец и эти люди из Рикменсворта… — буркнул он, но, увидев в ее лице неожиданный холод, умолк.
Она догадалась: это как-то связано с церковной борьбой, но по непонятной причине религиозные вопросы, так занимавшие ее в Лондоне, утратили для нее всякий интерес.
— Мой отец хороший человек, мастер Ганс, — слабо, но твердо ответила она, закрыв глаза. — Не знаю, какие еще сплетни дошли до вас, но он не сделал ничего плохого. — И Мег снова погрузилась в свои мысли, порывисто вдохнула и закрыла глаза. — Сейчас все будет в порядке. — Она взглянула на него, легонько оттолкнув. — Правда, мастер Ганс. Всего несколько минут.
Но Гольбейн не слушал, по крайней мере не послушался. Ему вдруг померещилась что-то куда более важное. Проблеск дикой надежды — а вдруг Джон Клемент вообще отверг Мег, вдруг такое возможно? Возникшая мысль оказалась столь заразительной, что, вместо того чтобы отпустить, он еще сильнее притянул ее к себе, услышал шум ее сердца, почувствовал грудь, теплую спину под руками. Она медленно, как воздух всплывает к поверхности воды, подняла голову, и его лицо невольно склонилось к ней. Он приоткрыл губы, она в ответ…
Мне потребовалось немало времени, чтобы вырваться. Больше, чем нужно. Но в конце концов я все же высвободилась из того клубка, в котором мы вдруг оказались, — предобморочное дыхание, губы, биение сердец, его крупные теплые руки, прижимающие меня к большому плотному телу. Я начала приходить в себя, когда положила дрожащую руку на его голову и поразилась, вместо мягкой темной гривы почувствовав под ладонью грубые, жесткие локоны. А когда Гольбейн сделал полшага назад — он хотел одной рукой обнять меня за плечо, а другой приподнять лицо и заглянуть в глаза, — я увидела большие пальцы с рыжеватыми волосками, сломанными ногтями, почерневшими от угольного карандаша, и поняла — это вовсе не те руки, что имеют право дотрагиваться до меня. Тогда я окончательно опомнилась и убедилась — на своем теле я хотела бы чувствовать только тонкие, изящные руки с длинными пальцами. Руки Джона.

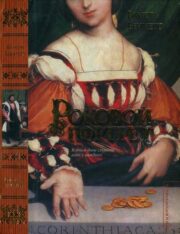
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.