В своих покоях мальчик подошел к окну и принялся играть со шпагой, недавно ему подаренной, — из серебра, с гербом на эфесе. Он вытаскивал ее из ножен, получая удовольствие от скрежета металла, и засовывал обратно, снова и снова, не думая ни о чем. Так что, когда ворвался отец, растрепанный, все время одергивавший одежду, как будто не был уверен, что она в порядке, он удивился. Отец с тревогой посмотрел на сидевшего у окна мальчика и сказал:
— Мне показалось, ты что-то видел.
Все знали — он не пропускал ни одной женщины, и все закрывали на это глаза, но он все еще боялся, что его застигнет жена.
— Нет. — Джон Клемент помнил, как произнес это слово, подняв на красивое раскрасневшееся лицо прозрачные, сознательно лишенные всякого выражения глаза. Холодно, как будто больше говорить было не о чем. Морщась от брезгливости при мысли о возможном разговоре. — Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Крупный человек не сразу понял ответ, а затем кивнул и вышел. Какое облегчение.
Он не знал, благословение это или проклятие — быть младшим сыном, зато намного дольше оставался чистым от самых гнусных излишеств взрослых. Он никогда не позволял озлобленности завладеть своими чувствами к Эдуарду, который в этих испытаниях всегда был рядом, но и не позволял ему взрослеть за них обоих, особенно после того как родные из поколения отца полностью деградировали. Он не позволял ему кричать, стучать кулаками, подобно самоубийце размахивать оружием. А ведь проще всего было покориться и принять ядовитое наследие и безумие, которое они наблюдали все эти годы. Он молчал и мечтал о путешествии на континент, однако затаил пожизненную невысказанную обиду, заполнившую пропасть, которую оказалось невозможно преодолеть, даже когда много лет спустя он признал правоту Эдуарда и то, что ради спокойной жизни стоило кое-чем пожертвовать.
Горькая ирония заключалась в том, что Эдуард хотел похоронить прошлое и начать новую, тихую жизнь. Повзрослев, мальчик научился избегать конфликтов. Но тогда он не признавал компромиссов и, вспоминая это, испытывал отвращение к себе. Именно он настойчиво требовал справедливости и возмездия, считал Эдуарда трусом, потому что тот уступал, и — непростительно — обвинял его в этом. В их ссорах был виноват только он.
Теперь Эдуард умер, и ненависть кончилась. А он, будучи наследником своей семьи, умеет лишь расставлять людям ловушки, он в этом вырос. И не с кем вспомнить детские годы. Теперь только он помнил комнату в Ламбетском дворце, помнил, как архиепископ Мортон ушел спать, помнил, с какой болью в глазах Эдуард отвернулся, тоже намереваясь заснуть. Помнил свои последние слова, произнесенные высокомерным тоном, усвоенным им в малолетстве. Между кроватями повисло: «Трус». Когда он проснулся утром, Эдуарда уже не было. И в черном прошлом он остался один.
Она смотрела на него расширенными глазами — молодая девушка с черными волосами под белым чепцом, освещенная свечой. Она была так напугана, что он затрепетал от жалости. Хватит, в самом деле, нужно взять себя в руки и сосредоточиться на настоящем. Нужно вспомнить, что он взрослый мужчина и в долгой жизни, после того как во всех продуваемых ветрами замках Англии он трал с братом в бабки, она была частью его мечты.
— Мег. — Он с трудом подбирал слова, сперва удивившись, как легко его губы произносят ее имя, затем найдя в нем опору. Он медленно возвращался в настоящее, в котором любил эту женщину. — Это умер мой брат.
Он видел, как она затаила дыхание, как сдвинулись ее брови, когда она задумалась над смыслом сказанных им слов. Затем Мег глубоко вздохнула. Он почувствовал — она все поняла правильно. Ее страх исчез. Она снова начинала верить ему.
Мег стремительно шагнула вперед и склонилась над ним. Ее лицо преобразилось, осветившись почти материнской нежностью. Она обняла его и прижала к себе, как ребенка. Чувствуя себя так хорошо в ее объятиях, он попытался не думать о том, что должно последовать всего через несколько минут. В глубине сознания мелькали воспоминания о ее податливом теле и страстных темно-голубых глазах. Но он не мог задерживаться на них теперь, когда все его надежды уступали место былому отчаянию. Подступившая сзади тьма почти мгновенно отрезала нахлынувшую было радость. Он знал, что вызывает этот страх, хотя и не мог контролировать мутную, повергавшую его в трепет печаль. Теперь ему нужно сказать ей все. Так велел сэр Томас. Но если он скажет, она будет знать. А если она будет знать, то может уйти. От этого ему становилось трудно дышать.
— Мне так жаль, — бормотала она, гладя его руку. — Так жаль. Твой брат. — Ему хотелось заглянуть в ее лицо, но оно было наверху, а он не осмеливался поднять голову. В ее голосе он слышал облегчение, которое она пыталась скрыть. Она проникла в его тайну и надеется на счастье. Он не хотел лишать ее этой уверенности. — Тот самый брат, о котором ты рассказывал? Тот, с которым ты не мог помириться? — мягко прибавила она, и ее рука замерла. — Ты сделал все, что мог… Не кори себя… Я знаю, это не твоя вина. — Затем, будто что-то вспомнив, она встряхнулась и слегка отпрянула. — Но разве об этом просил тебя рассказать мне отец? — Он не мог говорить. Она приняла его молчание за подтверждение своей догадки. — Ты же не сделал ничего плохого. — Он слышал по ее тону, что она оскорбилась за него. — Почему он так рассердился?
Он отодвинулся от нее, одернул плащ, взял себя в руки, встал, обнял ее за плечи и очень ласково притянул к себе. Теперь они оба полусидели на краю стола.
— Я не знаю, как сказать тебе, — прошептал он.
Она смотрела на него с непереносимым доверием.
— Ведь у нас теперь не будет друг от друга секретов, правда? — спросила она — пробормотала — и попыталась выдавить улыбку.
«Я так не хочу иметь от тебя никаких секретов, — молча умолял он, — но моя жизнь по сравнению с твоей была длинной, и мне придется объяснить тебе такие многослойные древние тайны. Я не хочу, чтобы ты думала, будто мне на сапоги налипла глина».
Не отрывая от него взгляда, она накрыла его лежавшую на столе руку своей. Но он видел, как она мечется в догадках, и отвел глаза. Затем посмотрел на ее белую руку и глубоко вздохнул.
— Твой отец прав. Мне нужно рассказать тебе кое-что еще, — сказал он громче, заглушая гулкие удары собственного сердца, — если я хочу быть до конца честным. Но это не должно ничего изменить в наших отношениях, — добавил он, чувствуя, что нужные слова приходят — красноречие отчаяния, позолотившее его речь. — Он хочет, чтобы я рассказал тебе о своем прошлом. Но сперва я должен сказать тебе — нас объединил наш выбор. Мы с тобой — ты и я — решили, как строить жизнь. Это наше настоящее и наше будущее, совместное. Долой все, что каждый из нас оставил в прошлом. У нас обоих темное начало.
Она кивнула, слегка смутившись, но доверчиво, с улыбкой.
— Ты хочешь рассказать мне о женщинах, которых любил? — спросила она. — Я не возражаю.
— Нет. — Он покачал головой. — Ты помнишь игру, которой я научил вас, когда вы были детьми? Про принцев из Тауэра? — спросил он. — С нее начинается книга твоего отца.
— Принцы, которых убил Ричард. — Она подхватила знакомую школьную тему и хотела вытащить из него улыбку светлым воспоминанием о прошлом. — Коварный свирепый Ричард. Целуя человека, замышлял его убийство.
Нет, не то. Он не знал, с чего начать. Он уже столько времени не вел откровенных разговоров. Почти никого не осталось в живых, а остальным не нужно ничего объяснять. Следовало подойти как-то иначе.
— Моего брата звали Эдуард.
— Да, — ответила заинтригованная Мег. — Я знаю. Сэр Эдуард Гилдфорд.
— Тебя не удивляет, почему у него другое фамильное имя?
Он не сразу понял, что начал рассказ, что теперь остается только закончить его и что, может быть, если он сумеет все правильно объяснить, ситуацию удастся спасти. Она пожала плечами. Она не понимала, почему он спрашивает ее об этом.
— Ваша мать вышла замуж во второй раз? — несколько нетерпеливо спросила она.
— Нет, — быстро ответил он, опустив глаза. — Это не его имя. Не фамильное имя, под которым он вырос.
Он почувствовал, как она напряглась.
— Так его звали сэр Эдуард Клемент? — спросила она, как будто ставя диагноз.
— Нет. — Он закрыл глаза. — Плантагенет. Его звали Эдуард Плантагенет.
Все остановилось, кроме крови, стучавшей у него в ушах. В комнате стало тихо и тесно. Его лоб покрылся испариной. Он почти не дышал. Наконец поднял глаза и заглянул в ее освещенные свечой глаза. Она смотрела на него, открыв рот.
— Принц из Тауэра? — еле слышно спросила она. Он как-то очень неловко кивнул. — А ты? — выдохнула она почти без голоса.
— А я Ричард. Когда я был мальчиком, меня называли герцогом Йоркским.
Я решила, что он сошел с ума, что горе вывихнуло ему разум. А может, он только что выдумал эту дикую сказку, чтобы не рассказывать мне чего-то более страшного. А может быть, и то и другое. А может быть, я просто не знала, что обо всем этом думать. У меня кружилась голова. Я поняла только, что, когда он произнес эти два имени, ему стало легче. Он встал со стола и повернулся ко мне. Он казался еще выше обычного, как будто у него с души свалился камень, а в глазах, неотрывно смотревших на меня, читался даже какой-то вызов. «Теперь думай что хочешь», — говорили они, но вместе с тем: «Верь мне».
— Но они исчезли, — только и пробормотала я, чувствуя себя кроликом в собачьей пасти. Однако голос постепенно набирал прежнюю силу и становился резким, в нем звучал упрек. — Их убили сорок лет назад. Это была игра. Наши уроки по риторике. Так ты нас учил.
В окно из темного сада доносился шорох его ночных обитателей. Вдали раздался пронзительный крик лисицы. В голове теснились воспоминания о домашней школе. Я будто снова слышала его голос, открывающий нам новые книги, открывающий нам мир. Если эта игра была ложью, тогда все остальное в ровном пейзаже знаний, наполненных для меня смыслом, тоже могло оказаться враньем и ловушкой. Если эта игра была ложью, тогда, не обращая внимания на легкую сутулость, заставлявшую мое сердце таять от нежности, на натянутые от напряжения мышцы, я совершенно не знала стоявшего передо мной человека. Новый Джон кивнул.

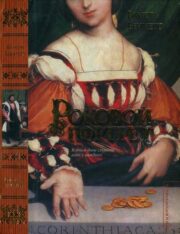
"Роковой портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Роковой портрет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Роковой портрет" друзьям в соцсетях.