Кризис наступил среди ночи; жар резко понизился, к Дэвиду стало возвращаться сознание. Он выпил глоток воды из ее ладони. Шон почти не спала; в эту ночь она прижимала к себе Дэвида так же, как он обнимал ее прошлой ночью. Спальный мешок насквозь промок от его пота. Он ничего не говорил, только один раз согнул колени и простонал ей на ухо:
– Живот болит.
Утром ему стало лучше, но сохранялась слабость, бледность, дряблость мышц. Он проголодался и говорил шепотом:
– Нет ли чего-нибудь поесть? – спросил он. – С Мег все в порядке?
Шон пошла к костру в надежде раздобыть ему пищу. Ивен сидел там один. Он дал ей несколько фиг, потом взял ее за руки.
– Послушай, Шон, Мег неважно себя чувствует. Дэвид, чтобы встать на ноги, нуждается в чем-то более существенном, чем фиги и рыба, которую не так легко поймать. Мы все нуждаемся в чем-то большем.
Она понимала, что Ивен имеет в виду ружье, и знала, что он прав.
– Ревуны? – спросила она.
– Они под рукой. Это самый простой путь.
Шон представила себе «кафедральный собор» в утреннем свете, ревунов, разбросанных по ветвям фигового дерева. – Они стали нам доверять, – тихо сказала она. – Они даже не возражают, когда мы берем их фиги.
– Не трави мне душу, – ответил Ивен.
Шон чистила клетки эльфов, когда услышала выстрел. Звук вибрировал под шатром, цикады на мгновение затихли, но тут же возобновили свое жужжание, к которому присоединились душераздирающие вопли ревунов. У Шон сдавило горло.
Она положила несколько термитов в одну из клеток, висевших на «игрунковом дереве». Тут прозвучал второй выстрел, и Шон повернулась, всматриваясь в направлении «кафедрального собора». Либо он в первый раз промахнулся, либо только ранил ревуна.
Шон кормила последнего эльфа, когда Ивен вернулся к костру, волоча за собой ружье.
– Первый и последний раз, – сказал он. Его щеки пылали. – Клянусь, я лучше умру с голоду.
Шон взяла у него ружье и осторожно прислонила его к столу.
– Я оставил ее там, вниз по ручью. Просто не мог ее дальше нести. Она как большая мягкая игрушка. Протянутые руки и… нежные глаза.
Я слышала два выстрела.
Ивен сел за стол.
– Я целился в сердце, спустил курок и увидел на ее лице это выражение… такое выражение было бы у тебя или у меня, если бы кто-то, кому мы бесконечно доверяли, предал нас. – Он перевел взгляд на свои руки. Стал вращать вокруг пальца свое обручальное кольцо. – Скажи мне, что она была всего лишь животным, Шон.
– Она была всего лишь животным. Он вздохнул.
– Она упала на землю, другие ревуны подняли крик, но даже сквозь этот шум я услышал, как она пытается вдохнуть. Ловит ртом воздух. – Ивен закрыл глаза и потер их рукой. – Этот звук будет преследовать меня по ночам. Я попал ей в легкие. Я подошел к ней. Она взглянула на меня снизу вверх, я направил ствол прямо ей в сердце и нажал на курок.
Шон передернуло. Ей не раз случалось видеть Ивена в тяжелом состоянии, она достаточно часто видела его слезы, потому что он их не скрывал. Но тут было другое.
– Я не смогу снова на нее посмотреть.
– Я возьму это на себя, – пообещала Шон.
Она услышала вздох облегчения, вырвавшийся из его груди.
– Прости, – сказал он.
– Робин в палатке. Почему бы тебе не полежать немного?
Он покачал головой.
– Мне хочется побыть одному.
Он полез в карман, достал из него коричневые выточенные из дерева четки, и сердце Шон оборвалось.
– Ты сделал то, что должен был сделать, Ивен. – Она поцеловала его в щеку. – Я люблю тебя.
Обезьянка-ревун оказалась меньше, чем Шон ее себе представляла. Безобидная. Беззащитная. Ее большие карие глаза были и сейчас широко раскрыты. Шон закрыла их, стянув пальцами веки. Она завидовала Ивену – его четкам и его вере. Шон не могла воспользоваться теми средствами утешения, которыми обладал Ивен.
Она не умела разделывать животное – просто следовала логике: извлекла внутренности, промыла брюшную полость водой из ручья. Шон сохранила печень и почки, но закопала остальные внутренние органы. Она закопала также и голову, хотя намеревалась ее сохранить. Если вы убиваете животное для собственного употребления, следует использовать его целиком. Но Шон не могла смотреть на эту голову с ее человеческими чертами. Она отрезала ее с полузакрытыми глазами.
Шон обнаружила единственный зародыш, крошечный и хрупкий. Она и его уложила в выкопанную ямку; не стоит рассказывать об этом Ивену.
Шон содрала с обезьянки шкурку и разрезала тушку на мелкие кусочки, чтобы никто не мог по форме куска определить, что ест обезьяну. Сложила свой полуфабрикат в белый пластиковый пакет и встала, удовлетворенная проделанной работой. Затем сняла свое белье, забрызганное кровью, и тоже уложила в яму, прежде чем засыпать ее землей.
На ужин они ели суп. Бульон получился негустой, но в нем плавало множество тонких кусочков мяса. Шон подоткнула под спину Дэвида сумки с мягкими вещами и покормила его. Он ел жадно и после второй тарелки смог держать ложку без посторонней помощи.
– Поблагодари Ивена от моего имени, – попросил он. – Ему было нелегко это сделать.
Ивен был единственным, кто не ел приготовленное Шон блюдо. Шон отвела его в сторону и попыталась убедить в том, что, если они не используют обезьянку для своего пропитания в целях выживания, ее смерть окажется напрасной.
– Не теперь, – ответил Ивен. – Пока я не могу этого сделать.
После ужина заморосил дождик, и Шон решила не выходить из палатки. Она вымоталась за день и почти не спала ночью накануне.
Улеглась в постель, обхватив Дэвида руками поперек живота. Она уже много лет не засыпала в таком положении.
Прежде чем уснуть, Шон услышала, как ревуны начинают свой вечерний концерт, и прижалась к Дэвиду еще теснее. Может быть, дело было в дожде, но ей показалось, что их голоса звучат все слабее, все отдаленнее, затихая один за другим.
К утру погода прояснилась, но дождь оставил после себя сырость, повсюду распространились яркие зеленые лишайники. Они покрыли почти целиком одну сторону их палатки, обосновались на подошвах их обуви.
Ивен все утро перетаскивал стволы из бальзовой рощи к костру, чтобы Дэвид мог их там обрабатывать. Дэвид окреп еще не настолько, чтобы заходить далеко в лес, но он мог очищать стволы от коры на расчищенном участке их лагеря.
Мег ослабела и все время дрожала. Она проводила большую часть дня сидя за столом и изготовляя крючки для рыбной ловли из костей обезьянки, и разговаривала с Дэвидом. Шон запасала насекомых для эльфов и каждый раз, проходя мимо костра, пыталась уловить, о чем говорят Мег и Дэвид. Их беседа звучала мягко, приглушенно. Поддразнивание на оперные темы прекратилось. Иногда они не разговаривали вовсе, однажды Шон застала Мег спящей. Она спала сидя, склонившись над столом, свесив голову на руки. Шон была обеспокоена ее неподвижностью. Она села на ствол бальзового дерева, который обрабатывал Дэвид.
– Что мы можем для нее сделать? – спросила она.
Дэвид покачал головой.
– Она сама не знает, то ли ее диабет вышел из-под контроля, то ли это усталость. Думаю, что в наших силах только одно – обеспечить ее полноценным питанием.
В эту ночь Шон лежала в постели рядом с Дэвидом, снова обняв его рукой поперек живота.
– Может быть, мне удастся сплести сеть из вьющихся стеблей, – размышляла она. – С ее помощью можно будет половить рыбу в заливе для купания.
Дэвид ее не слушал.
– Помнишь ту ночь, когда мы отправились на прогулку по речке? – спросил Дэвид. – Разве Тэсс не сказала тогда что-то насчет исследовательской группы?
– Орнитологи! – воскликнула Шон. – У них должно быть радио, и мы сможем позвать на помощь.
– Ведь это всего в паре миль отсюда вверх по течению, разве не так?
– Там еще были валуны в потоке. Я помню. Я могу туда пойти.
– Он покачал головой. – Нет. Давай пойду я. Утром.
Шон не хотела отпускать его одного. Он был еще слишком слаб.
– Я возьму с собой Ивена, – предложил он. – Ты останешься здесь и займешься сетью. На случай, если мы их не найдем.
Она снова прижалась к мужу. Они лежали молча несколько минут, прежде чем она решилась сказать ему то, что хотела.
– Мег сказала мне, что ты говорил ей о Хэзер. – Ее слова прозвучали до смешного обыденно.
– Да.
– Расскажи теперь мне.
– Что ты хочешь узнать?
– Все.
Он сел и отодвинулся на свою сторону постели. Она почувствовала себя одинокой. Ее рука, лежавшая на его животе, касалась теперь только спального мешка. Свет керосиновой лампы отбрасывал тревожные тени на его лицо, и Шон заметила выражение нерешительности в его глазах.
– У меня было такое чувство, что Хэзер скорее моя дочь, чем твоя, – наконец признался он.
Его слова поразили Шон. Она ощутила новый прилив гнева, того гнева, который она лелеяла в течение трех долгих лет.
– Я родила ее одна, Дэвид, – сказала она. – Не понимаю, как ты можешь говорить такое.
– Я знаю. – Он протянул руку и провел пальцем по ее щеке, затем опять опустил руку. – Я знаю, что ты была одна. Но ты сразу приступила к работе, и тогда она стала моей. В первые два месяца я занимался ею практически один. Я ее кормил, менял ей пеленки, укладывал спать.
Она об этом забыла. Она забыла, насколько зависела от него в те первые месяцы, пока он не устроился на работу. Когда он возвращался с работы, то прежде всего искал глазами Хэзер. Она забыла, как у Хэзер светлело лицо, когда она его видела. Как она не могла уснуть, пока Дэвид не споет ей песенку в ее комнате.
– Она нуждалась во мне больше, чем мальчики. И, конечно, больше, чем ты. И я наслаждался этим, ухаживая за ней. Вообще-то я делал всю грязную работу.
Он рассказал ей все о том дне, когда Хэзер умерла, и Шон впервые увидела события с точки зрения Дэвида. Она оцепенела, когда поняла вместе с ним, что Хэзер пропала; ее глаза наполнились слезами, когда он рассказал ей, как мучился от того, что ударил Кейта.

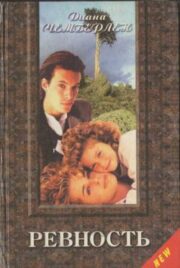
"Ревность" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ревность". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ревность" друзьям в соцсетях.