– Однажды этот мой заведующий как-то особенно сильно напился и повесился в своем кабинете.
– Там, где вы теперь сидите? – ужаснулся Владик.
– Нет, после его смерти я выбрал себе другую комнату. Так вот, этот человек и при жизни был настоящей помойкой. Мусор и гниль были не только в его теле – а я сам его вскрывал, но и в мыслях, и в одежде, и в его доме. Он жил один, и, хотя у него было много бывших жен и детей от разных браков, никто не пришел его проводить в последний путь. Нет, Владик, настоящие профессионалы, а ты должен таким стать, – тут голос Ризкина потеплел, и в глазах его Владик увидел даже некоторый восторг, – относятся к пациенту, лежащему в секционной на столе, еще как к живому человеку. Да, да, не удивляйся. Это как в сказке, только наоборот: «Пациент скорее мертв, чем жив», но для нас с тобой, для лечащего врача, который, кстати, до сих пор почему-то сюда не явился, для главного врача, наконец, этот человек еще как бы не покинул наш мир окончательно. Мы ставим точку в его жизни своим окончательным патолого-анатомическим диагнозом.
Владик с недоверием смотрел на Ризкина.
– Это парадокс, я согласен, – тот расхаживал перед Владиком, будто лектор перед большой аудиторией, – ведь даже для родственников, которые уже, скорее всего, знают, что случилось, человек уже умер. А для нас с тобой он еще больной. Мы ведь еще не разгадали его последнюю загадку.
– Какую? – обреченно спросил Владик.
– Загадку его смерти. Ты, возможно, никогда не задумывался об этом, но ведь смерть – это не секундный процесс. И разгадать, как и отчего она произошла, когда были запущены ее механизмы – час, день, а может быть, месяц или год назад, нас обязывает специальность. Каким образом процесс стал необратим и развязка начала приближаться с неумолимостью поезда, раздавившего Анну Каренину? Кто об этом знал или мог знать? Видел ли эти изменения лечащий врач? Как он их оценивал? Мы все с тобой должны понять. А чтобы было легче в плане сенсорном – ну, там, зрелище, запах не всегда бывают приятными, сравни нашу работу, например, с работой врача-лаборанта. Кровь у них – самый, так сказать, не пахнущий материал.
Владик молчал.
– Философски говоря, – Ризкин взмахивал перед собой длинным острым ножом, как указкой, – человек движется в сторону смерти с самого рождения. Но кроме голой философии есть и практика. Есть болезни, трудно поддающиеся диагностике или вообще мало пока изученные, которые ускоряют человеку этот путь. Ужасно, конечно, когда нам привозят тело какого-нибудь молодого человека, умершего внезапно – на улице, на тренировке, в каком-нибудь клубе или, скажем, в постели. Но для нас с тобой самые интересные случаи – именно эти.
– Но это же не больничная смерть? – еще сумел возразить Владик.
– Ну и что? Я по совместительству и судебно-медицинские случаи вскрываю. Пользуйся возможностью – и тебя могу научить. Заметь, бесплатно!
– Прямо за этим столом? – Владик все еще не решался приближаться к столу близко.
– Кое-чему за столом. И сразу. Но окончательно ты сможешь разобраться в диагнозе, только изучив ткани еще и под микроскопом. Только тогда ты можешь спокойно, без угрызений совести написать свой вердикт. И не просто написать, а обосновать его – тщательно, как для суда. Иногда для настоящего суда, но чаще для суда коллег. Ведь ты же вынесешь свое заключение на суд докторов, которые, скорее всего, тебя не жалуют, потому что побаиваются.
– Я бы тоже побаивался на их месте, вон у вас сколько ножичков! – Владик наконец смог пошутить, но в душе ему было не до шуток. Он даже и себя-то перестал ощущать прежним Владиком – спокойным, циничным, не лезущим в карман за словом. И еще он вспомнил свою прежнюю работу и опять почему-то Барашкова. Он-то, Владик, был все-таки инструментальный диагност и работал с чуткими и умными приборами. А вот как Барашков умудрялся ставить правильные диагнозы только на основании опроса и осмотра больного? Ну, еще, конечно, рентген да самые простые анализы… Владик внутренне поежился. М-да… Он, наверное, недооценивал Барашкова, но все равно, думать об Аркадии Петровиче Владику было отчего-то неприятно.
Открылась дверь, и вошел врач, которого Владик не встречал раньше. Выражение лица у доктора было смущенное и виноватое.
– Я зашел узнать про свою больную… – нерешительно начал он. – Но вы еще, кажется, даже не начинали?
– А-а, мы вас вспоминали недавно, – сказал ему Ризкин. – Я вам позвоню, когда мы закончим.
Врач топтался на месте и не уходил.
– Как вы думаете… – начал он, но Михаил Борисович его перебил:
– Я посмотрел историю. Предполагаю, что на секции так все и будет, как вы написали в эпикризе. На всякий случай будьте на связи. Я вас приглашу, если мы с коллегой найдем что-нибудь необыкновенное.
– Дай бог, что б не нашли, – сказал доктор, взглянул на Владика и нырнул обратно в коридор. Михаил Борисович посмотрел, закрылась ли за ним дверь, и взял у Владика нож.
– Ладно, сегодня в виде исключения я тебе все-таки помогу, но писать заключение по этому случаю будешь уже ты, – он с видом дирижера, управляющего большим симфоническим оркестром, подошел с Владиковой стороны к секционному столу и виртуозно сделал первый разрез.
12
Азарцев вошел в секционную и увидел, что работа еще в самом разгаре.
Михаил Борисович в этот момент показывал Владику крапчатость ткани миокарда на срезе. Азарцев постоял немного и хотел выйти. Ризкин почувствовал спиной, что кто-то вошел, и обернулся!
– Вова, чего?
– Ничего, – Азарцев пожал плечами. – Мы договаривались, что я приеду к двенадцати, а к двум подкатят родственники. Вам еще долго?
Владик, который уже ужасно устал от обилия информации, вдруг тоже повернулся к Азарцеву и сказал довольно громко:
– Вас разве не научили, что, когда доктор работает у секционного стола, его нельзя отвлекать? – Владик и сам не знал, чего это он вдруг принялся командовать в первый свой день работы в секционной. Наверное, в нем говорила усталость. Ризкин посмотрел на него с удивлением.
– Простите, Михаил Борисович, но я же вижу, с каким напряжением вы сегодня работаете, а тут лезут все подряд вам под руку… – Владик обычно умел вовремя поправиться, но тут высказался явно невпопад. Что-то это ему подсказало, когда он вдруг встретился с ироничным взглядом Азарцева.
– Извините великодушно, – чуть склонил голову Азарцев, но, когда опять посмотрел на Владика, тому стало вообще как-то нехорошо.
– А это наш бальзамировщик, – сказал Михаил Борисович, повернувшись к Дорну. – Вова, познакомься. Это мой молодой коллега Владислав Федорович.
Азарцев посмотрел на Владика и увидел перед собой молодого, нагловатого парня довольно приятной наружности. Он был бы даже похож на самого Азарцева – и ростом, и фигурой, и цветом волос, но было все-таки в его внешности что-то не комильфо, что-то, что делало Владика, как сказали бы в Англии во времена Дживса и Вустера, не джентльменом. В то время как сам Азарцев был во всех отношениях, безусловно, комильфо, если не считать, конечно, его теперешней профессии. И именно это обстоятельство делало «Вову-бальзамировщика» весьма странной фигурой в глазах Михаила Борисовича. Доктор Ризкин не любил людей, по большому счету, но относился к ним снисходительно. Так он относился к своим медицинским сестрам, санитару Павлу Владимировичу, большинству врачей больницы и вообще ко всему человечеству. Но «Вова-бальзамировщик» явно не нуждался ни в каком снисхождении. Он был для Михаила Борисовича терра инкогнита, и это Ризкина раздражало. Прислал его к нему главный врач, деньги, которые он получал от Азарцева, тоже Михаилу Борисовичу не мешали, сколько еще денег и каким образом уходило наверх, его не волновало. Выходит, Азарцев Ризкина должен был бы устраивать во всех отношениях. Он был не болтлив и работоспособен. А уж какие шедевры выходили из-под Вовиных рук… Ризкин от души восхищался его искусством, но вот этакая таинственность, которая окружала личность самого Азарцева, казалась Ризкину опасной и потому нежелательной. «Кто он такой?» – Михаил Борисович интуитивно чувствовал в Вове человека не совсем обыкновенного. Ризкин даже не исключал, что Азарцев может быть не тем, за кого себя выдает. «Конечно, Вова связан с криминальным миром, – думал Михаил Борисович. – Интересно, где это он научился так виртуозно работать?» Но раз Азарцева прислал главный врач, Михаил Борисович не чувствовал никаких сомнений относительно финансовой стороны этого дела. Человек работает на территории больницы, имеет так называемых больничных «клиентов» – понятно, что деньги идут «налом». Не Ризкин это придумал, и он не собирался это ни с кем обсуждать, но нужно было быть очень осторожным. Потому он специально ни о чем не расспрашивал Азарцева. Сделал работу – отдал деньги, всё – все свободны. И никогда Михаил Борисович не позволял себе быть невежливым с Вовой. А сам Азарцев не считал нужным рассказывать кому-либо о своей прошлой жизни. Но сегодня дурацкое замечание молокососа Дорна Азарцева задело.
«Щенок, – подумал он про Владика. – Посмел бы ты в моей клинике что-нибудь мне сказать. Ладно бы еще этот старый черт Ризкин высказался. Ему хоть можно простить, он начальник. И специалист, говорят, неплохой. А этот еще туда же лезет со своими нравоучениями…» И впервые после того дня, когда Азарцев потерял свою пристань, прибежище, гавань, одним словом, свою собственную клинику, он снова, как будто вновь после только что пережитого, почувствовал острое унижение. И он быстро вышел, чтобы не заплакать.
– Будь с Вовой поосторожнее, – значительно сказал Владику Ризкин.
– А что я такого сказал? – сделал наивные глаза Владик. – Я все правильно сказал.
– Я тебя предупредил, – больше Михаил Борисович не стал ничего объяснять.
Азарцев прошел в свою комнатку и отпер тумбочку, которую всегда закрывал на ключ. Теперь в нее помещалось все его хозяйство. Несколько медицинских книг, французское пособие по технике бальзамирования, набор необыкновенно тонких и эластичных импортных перчаток, специальный фартук, косметические наборы и склянки с жидкостями для работы. Медицинские инструменты Азарцев всегда возил с собой. Сейчас он сел на шаткий стул перед тумбочкой, наклонился, чтобы достать необходимые для работы вещи. Все его вещи были перед ним на двух небольших полках. Азарцев посмотрел на эти полки, на свернутый фартук, на косо лежащую французскую книжку и закрыл лицо руками. Перед глазами всплыл прекрасный дом, похожий на маленький замок, его клиника, чудесный кабинет, прекрасная операционная, большой холл с роялем, высокие золоченые клетки с экзотическими пичугами. Это было его детище, такое же родное, как и дочь Оля. Он с силой захлопнул дверцу тумбочки. «Бальзамировщик хренов, – вслух сказал он. – Подумать только! «Вова». И каждая свинья может называть меня на «ты». Он потер лоб. Картинка в сознании сменилась. Теперь появилось лицо дочери. Оля. Если бы не она, можно было бы без особого сожаления пустить себе пулю в лоб. Он задумался. Пустить пулю? Из чего? Отцовский пистолет – старый, еще трофейный, неизвестно откуда у отца появившийся, но очень нравившийся Азарцеву с детства и хранившийся все время в ящике его письменного стола в кабинете в этой самой клинике, был также конфискован Лысой Головой, как и все остальное имущество. «Интересно, там теперь по-прежнему заправляет Юлия?» Азарцев поймал себя на мысли, что впервые, пожалуй, за несколько месяцев подумал о своей клинике и предательнице-жене, как о чем-то предметном. До этого он старался вообще не думать о своей потере, а если и вспоминал о ней, то все происшедшее представлялось ему огромным кровяным пятном, застилающим мозг. А теперь в его сознании хотя бы всплыли образы: территория усадьбы, жуткая мегера фантастической красоты – его собственная бывшая жена и, наконец, главный мучитель – Лысая Голова. Человек, обязанный ему всем и подставивший его, как мальчишку. Владимир открыл глаза и снова уставился на содержимое тумбочки. «Я должен работать, – сказал он себе. – Должен работать ради Оли. Если моей дочери понадобится помощь, кроме меня, нет ни одного человека на свете, кому она нужна. Юлия не в счет. Она совершенно не понимает Олю. Она подавляет все живое вокруг нее. Еще немного, и девочка просто не сможет жить с матерью. И еще неизвестно, выйдет ли она замуж…»

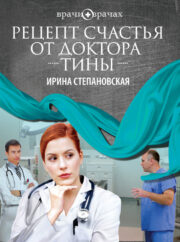
"Рецепт счастья от доктора Тины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рецепт счастья от доктора Тины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рецепт счастья от доктора Тины" друзьям в соцсетях.