Глава 4
В воскресенье контора была закрыта, и Рейнгольд мог полностью распоряжаться своим послеобеденным временем, что довольно редко выпадало на его долю. Он сидел в садовом павильоне, который после многократных битв ему удалось получить в свое единоличное пользование под предлогом музыкальных упражнений, «надоедающих всем в доме». Только здесь молодой человек мог считать себя до известной степени свободным от вечного контроля тестя и тещи, простиравшегося даже на комнаты молодых, и он пользовался каждой свободной минутой, чтобы отдохнуть в своем убежище.
Так называемый сад был таким, какой вообще возможен в старых, тесно застроенных и густонаселенных городских кварталах. Высокие стены и крыши с трех сторон окружали небольшой участок земли, пропуская в него лишь крохи света и воздуха; несколько деревьев и кустов влачили здесь жалкое существование. В качестве естественной границы с четвертой стороны тянулся один из тех узких каналов, которые прорезают город Г. во всех направлениях, и его медленно текущие мутные воды служили для садика довольно мрачным фоном. По ту сторону канала возвышались все те же каменные стены. Весь дом Альмбаха удивительно походил на тюрьму, и это сходство накладывало свой отпечаток даже на единственно свободный клочок земли — маленький садик.
Расположенный в нем павильон едва ли был намного приветливее, единственная его вместительная комната отличалась более чем простым убранством. При взгляде на старомодную мебель сразу становилось ясно, что когда-то ее за ненадобностью убрали в сарай, а потом она снова появилась на свет Божий, чтобы составить необходимейшую обстановку комнаты. Единственным украшением комнаты был великолепный рояль, стоявший у окна, обвитого чахлыми побегами дикого винограда, — наследство покойного директора музыкального училища, оставленное им своему ученику Рейнгольду. Среди нищенской обстановки комнаты этот дорогой инструмент производил такое же странное, необыкновенное впечатление, как присутствие молодого человека с идеально вылепленным лбом и пламенным взором за решетчатыми окнами конторы.
Рейнгольд сидел за столом и писал, но в его лице не было того усталого, апатичного выражения, которым оно отличалось, когда перед ним лежали счетные книги: на его щеках пылал почти лихорадочный румянец, а рука, быстро надписывавшая чье-то имя на почтовом конверте, слегка дрожала, как будто от сдерживаемого волнения. Послышались шаги, и стеклянная дверь приоткрылась. Быстрым движением молодой человек сунул конверт под лежавшие на столе листы нотной бумаги и обернулся.
Вошел Иона, слуга капитана. Гуго всего лишь на несколько дней воспользовался предложенным ему гостеприимством родственников и затем перекочевал на собственную квартиру. Матрос неловко поклонился и, положив связку книг на стол, произнес:
— Господин капитан приказали вам кланяться и передать вот эти книги из их дорожной библиотеки.
— Разве брат не придет сам? — удивленно спросил Рейнгольд. — Ведь он обещал.
— Господин капитан уже давно здесь, — отрапортовал Иона, — только их опять, должно быть, задержали там, в доме: дядюшка желали посоветоваться с ними о разных домашних делах, тетушка требовали их помощи при перестановке мебели в гостиной, а бухгалтер непременно хотел залучить его в свой клуб. Его рвут на части, и он не может отделаться от них.
— Гуго за одну неделю, как видно, покорил весь дом, — иронически заметил Рейнгольд.
— Мы повсюду так поступаем, — произнес Иона, преисполненный чувства собственного достоинства.
Он уже приготовился много кое-чего рассказать относительно победоносного шествия по жизни своего капитана, но ему помешал приход последнего.
Гуго весело приветствовал брата:
— С добрым утром, Рейнгольд! Ну, Иона, что тебе здесь нужно? Пошел на кухню, тебя там ждут, и я обещал тетушке, что ты поможешь служить за столом. Живо, кругом марш!
— К бабам? — спросил матрос, и его лицо недовольно вытянулось.
— Скажите на милость!.. «К бабам»! И откуда этот человек заразился такой ненавистью к женщинам, — смеясь, проговорил Гуго в сторону брата. — Конечно, не от меня: я чрезвычайно обожаю прекрасный пол.
— Да, к сожалению, даже слишком, — проворчал про себя Иона, но послушно повернулся левым плечом вперед и замаршировал к двери.
Капитан подошел к брату и начал торжественным тоном, бесподобно подражая старику Альмбаху:
— Сегодня у нас большой семейный обед… В честь меня, разумеется! Надеюсь, ты с должным почтением отнесешься к этому событию и снова станешь вести себя так, чтобы я мог, не в ущерб себе в высшем свете, показать семье всю свою любовь.
Рейнгольд пожал плечами:
— Прошу тебя, Гуго, будь же, наконец, серьезнее! Долго ли еще ты станешь разыгрывать эту комедию и поднимать на смех весь дом? Берегись, чтобы не догадались, какого рода твоя любезность, и не поняли, что за ней кроется простая насмешка.
— Действительно, это было бы скверно, — спокойно произнес Гуго, — но будь покоен, не догадаются.
— Так доставь по крайней мере мне удовольствие и перестань рассказывать свои ужасные индийские сказки! Право, ты уже хватаешь через край. Вчера дядя и то спорил с бухгалтером относительно твоего рассказа о борьбе с удавом, только что сочиненного тобой для них, даже ему он показался маловероятным. Я сгорал от стыда, присутствуя при их диспуте.
— От стыда? — усмехнулся капитан. — Если бы я был при том, то сразу же ответил бы историей охоты на слонов или на тигров, либо рассказал кое-что о нападениях дикарей, и с таким эффектом, что у них волосы стали бы дыбом, — тогда сказка об удаве показалась бы им в высшей степени вероятной… Не беспокойся! Я отлично знаю своих слушателей, недаром все в доме буквально готовы задушить меня проявлениями своих симпатий.
— За исключением Эллы, — перебил его Рейнгольд. — Странно даже, ничем не победить ее страха перед тобой.
— Да, в самом деле очень странно, — как бы с сожалением согласился Гуго. — Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь в доме сомневался в моих совершенствах, и потому решил сегодня же пустить в ход всю свою неотразимую привлекательность против моей милой невестки. Я твердо уверен, что после этого и она примкнет к большинству… Надеюсь, ты не против?
— Рекомендовать что-то в отношении Эллы? — Молодой человек не то с сожалением, не то презрительно пожал плечами. — С чего тебе пришло в голову?
— Да это и не опасно, — спокойно продолжал Гуго. — Я уже неоднократно пытался поговорить с нею по душам, но она все время занята исключительно ребенком. Скажи, пожалуйста, откуда у твоего сына, Рейнгольд, такие чудесные голубые глаза? На твои они нисколько не похожи; между тем я не знаю никого из родных…
— Мне кажется, у Эллы тоже голубые глаза, — равнодушно перебил его брат.
— Тебе только кажется? Ты еще не успел убедиться? Впрочем, это и не так-то легко: твоя жена никогда не поднимает их, да и вообще под ее огромным чепцом совершенно не видно лица, Рейнгольд, скажи мне, ради Бога, как ты позволяешь ей носить такие допотопные платья? Уверяю тебя, что одно только это было бы вполне уважительным поводом для развода.
Рейнгольд сел за рояль и стал машинально перебирать клавиши.
— Я не обращаю внимания на туалеты Эллы, — равнодушно ответил он, — и полагаю, что совершенно бесполезно настаивать на изменениях в них. Да и какое мне дело?
— Какое тебе дело, как одевается твоя жена? — повторил капитан, взяв со стола несколько нотных листов и бегло просматривая их. — Премилый вопрос в устах молодого супруга! У тебя было когда-то очень тонкое чутье ко всему прекрасному, и я почти боюсь… А что это такое? «Синьоре Беатриче Бьянконе в Г.». У тебя в городе завелась итальянская корреспондентка?
Рейнгольд вскочил. Замешательство и неудовольствие выразились на его лице, когда он увидел письмо, спрятанное им под нотную бумагу, в руках брата.
— Беатриче Бьянкона? — как ни в чем не бывало повторил капитан. — Да ведь это примадонна оперы, производящая здесь неслыханный фурор. Разве ты знаком с ней?
— Совсем мало, — ответил Рейнгольд, выхватывая письмо из рук брата. — Я был недавно представлен ей на вечере у консула Эрлау.
— И уже в переписке с нею?
— Вовсе нет, в письме нет ни одной строчки.
Гуго громко рассмеялся:
— Конверт с подробно написанным адресом, массой бумаги внутри и ни одной строчки на ней? Милый Рейнгольд, это еще невероятнее моей сказки об удаве. Неужели ты всерьез думаешь, что я поверю тебе? Не смотри на меня так мрачно, я не собираюсь проникать в твои тайны.
Вместо ответа Рейнгольд вытащил лист бумаги из незапечатанного конверта и показал брату.
— Что это значит? — воскликнул тот, с изумлением взглянув на лист. — Романс… текст и музыка… и ни слова более… только твоя подпись. Ты сам сочинил это?
Рейнгольд взял листок из рук брата, вложил его в конверт и, запечатав, положил к себе в карман.
— Это лишь опыт, не более. Она в достаточной степени артистка, чтобы оценить его, пусть одобрит или бросит — ее дело!
— Так ты сочиняешь? — спросил капитан, и лицо его сразу приняло серьезное выражение. — Я не думал, что твоя страсть к музыке дойдет до творчества. Бедный Рейнгольд! Как же ты можешь выносить эту жизнь среди бессердечных и ограниченных людей, готовых задушить всякую искру поэзии, как нечто лишнее и опасное? Я бы не выдержал!
Рейнгольд снова бросился на стул перед роялем.
— Не спрашивай, пожалуйста, как я выношу, — ответил он сдавленным голосом. — Довольно того, что выношу!
— Я уже давно подозревал, Рейнгольд, что ты был неискренен в своих письмах, — продолжал Гуго, — что под довольством жизнью, которым ты старался прикрыться от меня, таится нечто совершенно иное. Во время моего недельного пребывания в доме мне все стало ясно, хотя ты и прилагал все усилия к тому, чтобы скрыть это от меня.

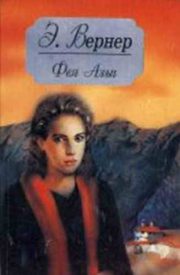
"Развеянные чары" отзывы
Отзывы читателей о книге "Развеянные чары". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Развеянные чары" друзьям в соцсетях.