— Как, Элеонора! Не ослышался ли я? Ты в этот день хочешь быть в театре, которого так решительно избегала каждый раз, как с ним соединялось имя Ринальдо?
Несмотря на старания молодой женщины скрыть свое лицо, видно было, что она густо покраснела до корней волос.
— На родине я никогда не решилась бы поехать в оперу, когда там раздавалась бы его музыка, — чуть слышно ответила она. — Мне казалось бы, что все взоры устремлены на меня, хотя бы я сидела в самой глубине ложи. У тебя в доме и у наших близких знакомых я почти никогда не слышала его произведений. Их избегали ради меня, так как знали все и щадили меня. Сама я никогда не пыталась переступить границу этой дружеской заботливости, может быть, из трусости, может быть, от наполнявшей мою душу горечи. А теперь, — она быстро встала, и в ее голосе зазвучала неожиданная твердость, — теперь я снова увидела Рейнгольда и хочу узнать его по его творениям — его и… ее!
Эрлау все еще не мог опомниться от изумления, но он привык ни в чем не отказывать своей любимице, как бы странны ни казались ему ее желания. Его избавил от прямого ответа приход слуги, доложившего, что доктор Конти только что приехал, а в приемной дожидается капитан Альмбах.
— Капитан на редкость простодушен, — сказал Эрлау. — Несмотря на все, что произошло между тобой и его братом, он совершенно спокойно поддерживает прежние родственные отношения, как будто ровно ничего не случилось. В целом мире на это способен только Гуго Альмбах.
— Тебе неприятны его посещения? — спросила Элла.
— Мне? — улыбнулся Эрлау. — Ты ведь знаешь, дитя, что он покорил меня, как покоряет всех, кого хочет… за исключением, может быть, одной моей Элеоноры, к которой он, кажется, питает особенное почтение.
С этими словами консул взял свою приемную дочь под руку, и они вместе прошли в гостиную.
Докторский визит был непродолжителен. Гуго также вскоре покинул дом Эрлау, хотя приходил сюда очень охотно. Неизвестно, знал ли об этом Рейнгольд, во всяком случае, подозревал, но, по обоюдному молчаливому соглашению, братья никогда не касались этого вопроса. Капитан не привык добиваться откровенности, в которой ему отказывали, поэтому последовал примеру Рейнгольда, хранившего полное молчание по поводу встречи в деревенской гостинице и даже не упоминавшего о жене и сыне с тех пор, как узнал об их близком соседстве. Что скрывалось под этой непроницаемой замкнутостью, Гуго не допытывался, хотя был убежден, что причина ее — отнюдь не равнодушие.
Вернувшись домой, капитан нашел в своей комнате поджидавшего его Иону. Во всей фигуре матроса было что-то необычное, его всегдашняя невозмутимость сегодня исчезла, и он с видимой тревогой ждал, чтобы капитан снял шляпу и перчатки. Тогда он подошел к нему вплотную и вытянулся по стойке смирно.
— В чем дело, Иона? — спросил Гуго, невольно обратив на него внимание. — Ты как будто собираешься произнести речь?
— Так точно, — подтвердил Иона с некоторым смущением, принимая еще более торжественную позу.
— Вот как? Это новость. До сих пор я думал, что ты составил бы ценное приобретение для монастыря траппистов; если же в виду окружающих классических произведений на тебя снизошел дух ораторского искусства, то я очень рад. Итак, начинай! Я слушаю.
— Господин капитан…
На первый раз красноречие матроса ограничилось этими двумя словами. Вместо того чтобы продолжать, он уставился в пол, точно хотел сосчитать все кусочки мозаики.
— Слушай, Иона, ты мне крайне подозрителен, — внушительно сказал Гуго. — Уже больше недели ты не ворчишь, не бросаешь хозяйке и ее служанкам яростных взглядов! На твоем лице иногда появляются складки, которые при известной доле воображения можно принять за слабую попытку улыбнуться. Повторяю тебе, это в высшей степени подозрительные признаки, и я готовлюсь к самому худшему.
Иона, казалось, и сам понял, что надо объясниться определеннее, и, собравшись с духом, выговорил:
— Господин капитан, бывают люди…
— Это неоспоримый факт, подтверждение которого у меня перед глазами. Ну, бывают люди… что же дальше?
— Которые могут терпеть баб, — продолжал Иона.
— И другие, которые их не терпят, — добавил капитан, когда наступила вторая пауза. — Это тоже неопровержимый факт, и живыми примерами его служат капитан Гуго Альмбах и матрос Иона с «Эллиды».
— Я, собственно, не то хотел сказать, — возразил матрос, которого такое непрошенное продолжение его заученной речи совсем сбило с толку. — Я только думал, что есть люди, которые по отношению к женщинам представляются очень скверными, а на самом деле вовсе не такие.
— Я нахожу, что это служит в высшей степени лестной иллюстрацией к моей собственной персоне, — заметил Гуго. — А теперь, ради Бога, скажи мне, к чему ведут твои подготовительные речи?
Иона несколько раз глубоко вздохнул, следующая часть приготовленной речи, видимо, крайне затрудняла его.
— Господин капитан, — начал он, наконец, заикаясь. — Я ведь отлично знаю, какой вы на самом деле, и… и… узнал одну молодую женщину…
Губы капитана дрогнули, как будто от подавляемой улыбки, но он принудил себя остаться серьезным и хладнокровно произнес:
— В самом деле? Для тебя это замечательное событие.
— И я приведу ее к вам, — закончил Иона.
Теперь капитан уже не мог удержаться от смеха.
— Иона, ты, кажется, не в своем уме. На кой прах мне эта молодая женщина? Что мне с ней делать? Не жениться ли?
— Вам вовсе ничего не надо делать, — с огорченным видом пояснил матрос. — Вы просто посмотрите на нее.
— Очень скромное удовольствие, — пошутил Гуго. — Кто же, в конце концов, эта донна, и почему мне необходимо посмотреть на нее?
— Это — маленькая Аннунциата, горничная синьоры Бьянконы, — пояснил Иона, у которого наконец развязался язык. — Бедное, совсем молоденькое создание, без отца, без матери. Она всего несколько месяцев в услужении у синьоры, и до сих пор ей было там хорошо, а теперь у них завелся один человек, — матрос злобно сжал кулаки, — его зовут Джанелли, он капельмейстер; он бедной девчонке прохода не дает. Один раз она его порядком отделала, а он за это насплетничал на нее синьоре, и с той поры она так сердится на девочку, что той просто житья нет. В том доме она вообще ничего хорошего не видит, оттого ей лучше уйти. Ей надо уйти! Я не могу терпеть, чтобы она оставалась там.
— У тебя, кажется, очень точные сведения о молоденькой Аннунциате, — сухо сказал Гуго. — Но ведь она итальянка, как же ты узнал все эти подробности? Пантомимой?
— Иногда нам помогал слуга синьоры, когда мы уже никак не могли понять друг друга, — простодушно объяснил Иона. — Только он отчаянно плохо говорит по-немецки, да я и вовсе не хочу, чтобы он везде совал свой нос. Но все равно ее надо взять из этой компании, она непременно должна поступить в немецкий дом.
— Ради нравственности, — вставил Гуго.
— Ну да, а также для того, чтобы выучиться немецкому языку. Ведь она ни слова не говорит по-немецки, просто мученье, когда нельзя понять друг друга. Я подумал: вы так часто бываете у консула Эрлау, господин капитан, может быть, молодой госпоже понадобится горничная, да и в таких богатых домах ничего не значит одной девушкой больше или меньше… Если бы вы замолвили словечко за Аннунциату…
Он запнулся и бросил на капитана умоляющий взгляд.
— Я поговорю с молодой госпожой, — сказал капитан. — Но лучше будет, если ты представишь там свою сироту, когда я получу определенное обещание; тогда и я посмотрю на нее. Только слушай, Иона, — тут Гуго сделал торжественное лицо, — я полагаю, что в тебе говорит лишь сострадание к бедному, гонимому ребенку.
— Только чистое сострадание, господин капитан, — заверил матрос с такой простодушной откровенностью, что Гуго должен был снова сжать губы, чтобы не расхохотаться.
«Я серьезно думаю, что он сам в этом уверен», — проворчал он и прибавил вслух:
— Мне приятно это слышать. Я верю тебе, так как мы ведь никогда не женимся, Иона, не правда ли?
— Нет, господин капитан, — ответил матрос, но ответ звучал не с прежней твердостью.
— Ведь для нас бабы ничего не значат, — продолжал Гуго с невозмутимой серьезностью. — Дальше сострадания и благодарности дело не пойдет, а там мы уходим в море, и только нас и видели.
На сей раз матрос ничего не ответил, в остолбенении глядя на своего господина.
— И какое счастье, что это именно так! — многозначительно заключил капитан. — Бабы на нашей «Эллиде»! Да Боже упаси!
С этими словами он вышел из комнаты, а матрос продолжал смотреть ему вслед с таким лицом, по которому нельзя было решить, то ли он ошеломлен, то ли опечален. В конце концов последнее чувство взяло верх: он опустил голову и тяжело вздохнул.
— Ну, да, конечно, ведь она тоже баба… к сожалению!
Гуго прошел в рабочий кабинет брата. Рояль был открыт, а Рейнгольд лежал на диване, уткнувшись головой в подушки. Его лицо с полузакрытыми глазами и высокий лоб со свесившимися на него темными волосами поражали своей бледностью, вся поза говорила о безграничном утомлении и полном истощении. При виде брата он почти не переменил положения.
— С твоей стороны это просто непростительно, — заговорил Гуго, входя. — Своей оперой ты взбудоражил добрую половину города; в театре суматоха, в публике идет настоящий бой из-за билетов. Его превосходительство директор совсем потерял голову, а синьора Беатриче в невозможном нервном волнении. Ты же, главная причина всех этих бедствий, мечтаешь здесь, как будто на свете не существует ни оперы, ни публики, ровно ничего!
Рейнгольд устало повернул голову; по его лицу видно было, что мечты эти были далеко не сладки.
— Ты ходил на репетицию? — спросил он. — Видел там Чезарио?
— Маркиза? Разумеется, хотя до репетиции ему было столько же дела, сколько и мне. Сейчас он предпочел сам дать представление высшей школы верховой езды и привел меня в совершенное изумление своей храбростью.

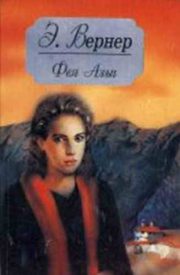
"Развеянные чары" отзывы
Отзывы читателей о книге "Развеянные чары". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Развеянные чары" друзьям в соцсетях.