Но я его понимал. Он мог оттолкнуть меня в сторону, прогнать, высокомерно отослать обратно с письмом к женщинам. Но то, как он произнес слово «Иерусалим», сказало мне больше, чем могли бы передать тысячи объясняющих фраз. Ричард Плантагенет был влюблен в идею. А в жизни человека есть место только для одной любви.
Я это знал, как знал и сам Христос. «Никто не может служить двум хозяевам» — вот его собственные слова. И в то время, как мои пальцы играли небольшое попурри из трех песен, которое я так часто исполнял, будучи бродячим музыкантом, что мог играть его даже во сне, — это были песни «Правь на Зеленый остров», «Сбор стручков гороха» и «Веселая ветряная мельница», — мой мозг медленно свыкался с мыслью о том, что после взятия Иерусалима Ричард, может быть, вернется к Беренгарии и полюбит ее, но никак не раньше.
В воздухе тихо замерли звуки последней мелодии.
— Ты очень хорошо играешь, — заметил он. — А свои собственные мелодии ты когда-нибудь сочиняешь?
— Очень часто.
— Я тоже. Когда куда-нибудь иду или перед тем, как заснуть. В последние дни одна из них все время звучит у меня в ушах. Смогу ли я ее наиграть? Дай-ка мне лютню — правда, я давно уже за нее не брался. — Он протянул руку.
Этот жест и последняя фраза были точным повторением жеста и слов, с которыми он позаимствовал у меня лютню в передней Башни Вильгельма. Когда над нашими руками и над лютней встретились наши глаза, я понял, что он вспомнил и узнал меня. Опустив руку, он тихо проговорил:
— Так ты тот самый парень? Я сразу понял, что видел тебя раньше. И это та же самая лютня?
Я с опаской кивнул. Ненадолго задумавшись, словно приспосабливая мозг к тому, как принять эту новость, он вдруг расхохотался.
— Да, что и говорить, странная ситуация. Скажи мне, куда ты тогда делся? Когда мы решили, что нельзя допустить скандала, строились планы перерезать тебе глотку, чтобы не дать воли твоему языку. Ты догадался об этом? И поэтому уехал в Наварру?
— Нет, сир. Я вернулся в Наварру потому, что тогда уже имел сведения, за которыми меня послали. Король хотел знать все о вашей предстоявшей женитьбе.
— Понимаю. Так, значит, вот откуда он об этом узнал.
Ричард погрузился в размышления, и я поспешил сказать:
— Я никогда и никому не говорил о том, что произошло, милорд. В этом не было необходимости. Требовалось только узнать, что помолвка расстроилась. И я был так же нем, как если бы вы действительно перерезали мне глотку.
— О, не я, не я, — поспешно возразил он.
Конечно, не ты, а твоя добрейшая мать! Теперь я понял, почему она всегда меня ненавидела.
— А ты никогда не пытался переложить всю эту печальную историю на музыку? — спросил Ричард. — Я бы на твоем месте попробовал. Какая тема! Вот, послушай… — Он потянулся за лютней, взял ее в руки и тут же затянул песню, которая, прозвучи она публично, стала бы более популярной, чем «Это было ясным майским утром». Мелодия была захватывающей и запоминающейся, слова крайне непристойными, но чрезвычайно остроумными. Если это действительно импровизация, то Ричард — несравненный музыкант и поэт, но мне казалось более вероятным, что она уже давно зрела в его сердце.
— В таком духе можно продолжать многие часы, — заметил он наконец. — И пусть я сгнию в преисподней, если понимаю, почему ты…
Он резко прервался, потому что где-то совсем рядом пронзительно запела труба. Ричард отодвинул стул и выпрямился. Поднялся на ноги и я. Встали и четверо из пятерых людей, остававшихся в шатре после того, как выпроводили других, а прислужники, убиравшие столы, прекратили свою работу. Было ясно, что предстоит какой-то ритуал, о котором я раньше не слышал.
Ричард высоко поднял правую руку, и я, стараясь точно следовать его движениям, поднял свою, но едва она достигла уровня плеча, как я поймал его предупреждающий, неодобрительный взгляд. Я украдкой осмотрелся и увидел, что поднялись только руки солдат, а пажи и слуги просто стояли смирно.
И все присутствующие трижды громко, торжественно разом прокричали: «Вперед, вперед, за Гроб Господень». За те секунды, которые потребовались для троекратного провозглашения этого клича, я понял, что все эти приверженцы креста были объединены не как христиане в широком понимании этого слова, а в замкнутом братстве посвященных — крестоносцев.
И я опустил руку, сознавая, что мой ранг не выше звания уборщиков столов.
Ритуал окончился раньше, чем с моего лица сошла краска стыда за свою ошибку. Человек, игравший с собакой, снова начал ее гладить, а начищавший кольчугу снова склонился над нею.
— Я не успел тебя предупредить, — мягко сказал Ричард, — таков обычай тех, кто поднял крест и идет над ним в бой. Этот клич звучит у нас каждый вечер, напоминая солдатам о том, что участие в крестовом походе — вовсе не пьянство, обжорство, мародерство и распутство. Разумный обычай. И я стыжусь того, что этот трубный час застал меня сегодня за пением фривольной песни.
Он снова взял лютню, задумчиво прошелся пальцами по струнам и запел песню, которая была для меня новой: «Иерусалим, ты стоишь на зеленом холме».
Я ненавидел его не потому, что он собирался жениться на Беренгарии. В самые тяжелые минуты я понимал, что она должна выйти замуж за какого-нибудь короля или принца. Ричард был единственным человеком, которого она выбрала и которому я, хотя и весьма незначительно, помог получить такую невесту. Я возненавидел его с тех самых пор, как мы, прибыв в Марсель, обнаружили, что он отплыл оттуда неделю назад, сэкономил всего каких-то семь дней. Не так уж много, чтобы дождаться невесту! И за то, что вынудил ее просидеть всю долгую зиму в Бриндизи. А больше всего за то, что он не пришел к ней в тот вечер. И в его лагерь я явился, охваченный ненавистью.
Но пока он пел, все эти чувства: ненависть, негодование, ревность — назовите их как угодно — исчезли без следа. Теперь я уже старею, остроту моего ума подтачивает приверженность к вину, сердце чахнет от тоски, но если бы я сейчас в первый раз услышал его голос, поющий ту песню, она подействовала бы на меня так же, как тогда.
Некоторые ее слова были взяты прямо из Псалтиря: «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить Тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселия моего». Но уверяю вас, что новые страстные слова, говорившие не об обращенной в прошлое ностальгии, а о стремлении вперед, к некоей цели, и о желании стать достойным ее достижения, вполне сочетались со страстными словами об изгнании «при реках вавилонских» и даже превосходили их.
Я слушал и разделял его чувства. Больше того, я был захвачен мыслью о том, чтобы стать крестоносцем. Я сидел в шатре и думал: «Я мог бы стать лучником или конюхом, а если подучиться, то и кузнецом. В тот момент я был, если подходить с точки зрения воздействия вина, совершенно трезв, так как не выпил ни глотка с момента ухода из дому. В трезвом уме и твердой памяти я сидел против Ричарда Плантагенета, страстно желая принять участие в крестовом походе.
Песня кончилась, и ее последние, словно запоздавшие ноты замерли в тишине. Я провел ладонями по влажному лицу и, когда смог заставить себя произносить слова, спросил:
— Милорд, кто сочинил эту песню? Это гениальнейший из поэтов. Мне хотелось бы знать, кого почитать.
— Ну-у, это слишком высокая похвала! Написал ее я и вовсе не уверен, что она хороша. Песня доводит меня до слез — и тебя тоже, мой мальчик, — но это не может быть мерой хорошей песни.
— Она выше всяких похвал! Любой средний менестрель, вооруженный такой песней, мог бы завербовать больше желающих участвовать в крестовом походе, чем все проповедники, включая самого Вильгельма Тирского. Ричард отложил лютню и рассмеялся.
— Я вспомню об этом, когда мне будет не хватать людей. А сейчас их у меня много, даже слишком много, как мне иногда кажется. Нет, мой мальчик, нам нужно больше денег, добротного снаряжения, лучшего оружия, здоровых вьючных животных — и поменьше старух в мужской одежде, золотых тарелок, поварят и поваров, а также пылкой гордости, чувствительной к оскорблениям, терзающим потом всю жизнь!
Он вскочил на ноги и зашагал взад и вперед по другую сторону стола, перечисляя все, что требовалось для крестового похода. На одном повороте он остановился.
— Но об этом можно говорить часами и без всякой пользы. Однако, уверяю тебя, мне не хочется волноваться, особенно на ночь, волнение лишает меня сна. Иногда я часами лежу там, не смыкая глаз, — он мотнул головой в сторону кровати, — как в лихорадке. Мне следует сдерживаться и не набрасываться на людей, требуя исправить то, что сделано неправильно. Меня называют грубым, но, о Боже, если ты не слеп и не глух, как некоторые из тех, кого ты сотворил и назвал людьми, ты видишь, что я каждый день смиряю свой нрав в двадцать раз чаще, чем некоторые за всю жизнь. — Это было похоже на припадок безумия: все его лицо, даже белки глаз, налилось кровью. Но стоял он спокойно, хотя и тяжело дышал, и вскоре заговорил гораздо ровнее: — Я все думаю о смене пастбища. Один Бог знает, сколько времени мне придется завтра убить, чтобы убедить моего французского брата в том, что такой обмен пойдет на пользу как его лошадям, так и моим людям. И даже убедившись в моей правоте, он добавит этот эпизод к длинному списку своих претензий. Но к тебе это не относится. Тебе пора отправляться обратно, уже поздно.
Теперь я знал, что должен сказать.
— Кое-что из ваших слов касается и меня, сир. Вы говорили о лучшем оружии. Однажды у меня возникла мысль о баллисте, которая могла бы метать более тяжелые камни дальше, точнее и с более разрушительной силой.
Этот камень упал близко, описав кривую траекторию, и удар был достаточно мягким.
— В самом деле? — Он слегка усмехнулся, что, впрочем, нельзя было назвать насмешкой — в таких случаях над детьми не смеются, а просто проявляют осторожный скептицизм. — Ты бы удивился, узнав, как часто меня останавливают, на ходу предлагая усовершенствованное оружие, буквально суют его в нос. Из них работает одно на тысячу, а мне приходится разбираться и в десяти сотнях остальных…

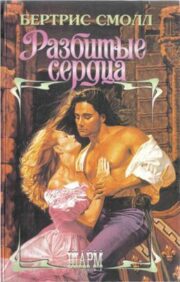
"Разбитые сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбитые сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбитые сердца" друзьям в соцсетях.