— Байрон. — Всю ее пронизывало желание. — О, Байрон! Звучание его имени на ее губах заставил его поднять голову, и он с новым приступом страсти набросился на нее с поцелуями, доводя до полной капитуляции.
Сквозь пылающий водоворот чувств до его слуха донеслось чье-то сдавленное восклицание, он повернул голову и встретился с ошеломленным взглядом застывшей в дверях Маделайн. Еще секунду она смотрела на него, не веря собственным глазам, затем круто взмахнула юбками и исчезла, оглушительно хлопнув дверью. Байрон выпрямился и сильно тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Кейт, у которой кружилась голова, открыла затуманенные глаза. Он отпустил ее и шагнул назад.
Кейт проследила за его взглядом, поспешно поправила корсаж и соскочила со стола, хотя ноги едва ее держали. Он целовал ее, обнимал! Она не верила своим собственным ощущениям. Кейт попыталась что-то сказать, но опухшие от поцелуев губы не слушались.
Байрон стоял перед ней, потрясенный не меньше. Его тело еще подрагивало после прилива желания, он взглянул на выразительный бугорок между своими бедрами и почувствовал себя униженным. Старый Эзра сказал, у него нет желаний, черт побери!
Он увидел, что Кейт, как сомнамбула, пятится к двери, и пришел в себя. Ее сверкающие глаза говорили, что она испытывает такое же смущение и стыд, такое же сильное влечение к нему.
— К-Кейт…
Услышав свое имя, она словно ожила, повернулась и выбежала из кабинета с горящим от стыда лицом. Байрон проводил ее неуверенным взглядом, не зная, остановить ли ее и хочет ли он этого. Все его тело еще подрагивало от запретного желания.
Будь проклят Эзра! Это из-за него он позволил вырваться из-под контроля своей страсти к Кейт Моррисон. Он застонал и тяжело опустился в кресло. Она красивая и невероятно женственная, так совершенно сложена и… и такая страстная, такая горячая! Исходящий от нее огонь охватил всего его пламенем: его гордость, его страсть… даже его сознание.
Вбежав в свою комнату и прислонившись к двери, Кейт тяжело дышала, сердце у нее бешено стучало. Никогда… за всю ее жизнь… не вела она себя так разнузданно. Подумать только, это она, она сама так тесно прижималась, целовалась и стонала в объятиях Байрона Таунсенда! Но мысль о том, кто заставил ее потерять над собой контроль, была заслонена пугающим осознанием собственной страсти! Она вся горела, жаждала его тела с такой силой, что не могла говорить. Никогда и ничего подобного она не испытывала за все пять лет супружеской жизни с Клейтоном Моррисоном. Когда ее муж снисходил до того, чтобы вернуться к вечеру домой, он быстро клевал ее в щеку сухим поцелуем, а ночью властно требовал от нее исполнения супружеского долга, после чего безразлично поворачивался к ней спиной и мгновенно засыпал, предоставляя ей всю ночь лежать без сна и горько думать о своей безрадостной жизни. А Байрон Таунсенд заставил ее почувствовать себя живой и горячей, изнемогающей от желания, которого ей следовало бы стыдиться.
Кейт вдруг резко выпрямилась, уколотая этой поразительной мыслью. Желание? Она испытывает желание к мужчине? Но как она может? Ведь она приличная женщина, а не какая-нибудь Далила!
Отдаленный бой часов в центральном холле напомнил, что уже скоро утро, а Гарнера все не было. Уже два раза Уитни надевала плотный плащ и выходила на улицу и сейчас не находила себе места от тревоги.
Ее преследовало безнадежное выражение его лица перед уходом. Она пыталась вспомнить, что ему наговорила, оправдать свои обвинения. В холодные предрассветные часы мысли ее прояснились, чувства успокоились, и она поняла, что должна была выслушать его, поговорить с ним или хотя бы просто молча обнять. С каждой минутой ее тревога возрастала. Уитни вдруг пришло в голову, что Гарнер мог вернуться домой, но решил не идти к ней. Она схватила подсвечник и тихо прошла в его комнату, но нашла ее пустой.
Разочарованная и одновременно успокоенная, она расхаживала по его спальне, где слабо чувствовался запах Гарнера, который она привыкла связывать с их любовью. Глаза ее наполнились слезами, она сморгнула, прогоняя их, и уже хотела уйти, как вдруг ее взгляд упал на небольшой кожаный сундук в углу комнаты. Сердце у нее сильно забилось, и она остановилась.
Это его военный ранец, который был с ним в Рэпчер-Вэлли. Поставив подсвечник на полку над холодным камином, она перенесла ранец на расстеленный перед ним коврик. Уитни погладила потертые медные заклепки, кожаные ремни, его инициалы, выгравированные на боку ранца. На нее нахлынули воспоминания: его великолепный мундир с блестящими золотыми пуговицами, рубашки из тонкого полотна… как он рычал от отчаяния, возмущенный ее дерзостью… как он невольно возбуждался от ее близости… как они заключили между собой честную сделку. Да, с болью подумала она, им многое пришлось пережить…
Ранец был легкий, наверное, пустой, подумалось ей. Но Уитни все равно расстегнула ремни и открыла его. В свете канделябра она увидела свернутый фетр, грубый шерстяной фетр, выцветший и очень знакомый. На нем поблескивали полированные роговые пуговицы, которые она помогла сделать отцу из рога первого оленя, которого сама уложила выстрелом.
Ее плащ. Ее старый неприглядный плащ. У Уитни сжалось горло. Значит, он его не сжег!
Преодолевая спазмы в горле, она вытащила свернутый плащ и поднесла к лицу, втягивая исходящий от него запах. Дым костра и запах лошадей, аромат палых листьев. Он пах лесом, пах ее домом. Уитни открыла глаза и подавила рыдания. Теперь, когда она вынула плащ, она увидела в ранце свои штаны из оленьей кожи. Опустив плащ на пол, она достала старые штаны, погладила мягкую потертую кожу, прижала ее к щеке. Гарнер и их сохранил.
На дне ранца что-то блеснуло, Уитни протянула руку и вытащила на свет блестящую пуговицу — пуговицу со следами зубов. От его кителя.
Она сжала в ладони пуговицу, и грудь ее пронзила острая боль. Он хранил все эти вещи: ее плащ, штаны и пуговицу, которую она прокусила в тот первый день, когда они встретились. Уитни прижала к лицу мягкую оленью кожу и заплакала, сама не понимая почему.
Гарнер почти всю ночь беспокойно ходил по темным, пустым улицам города, укоряя себя за то, что разрушил возникшее между ним и Уитни доверие. Во время последнего визита к Хенредону Паркеру он узнал, что Блэка могут перевезти в Филадельфию. А из газет, которые Паркер выписывал из Филадельфии, было ясно, что правительство уже теряет надежду предъявить кому-либо неопровержимое обвинение в бунте. Не желая тревожить Уитни, он решил не говорить ей об этом.
И сегодня, когда она спросила его, знал ли он об этом, он ответил отрицательно. И отчасти сказал ей правду: Гарнер тоже был поражен, узнав, что Блэкстона Дэниелса собираются судить за измену. И все-таки в его отрицании была доля лжи: он знал, что ситуация осложняется, и скрыл это от Уитни. Желание сохранить ее любовь заставило его пренебречь одним из условий, без которых она не может существовать — условием полной правдивости между ними. Правда заключалась в том, что он боялся ее потерять. Все время маленький циник внутри его нашептывал, что однажды произойдет нечто такое, что станет для нее важнее, чем он. Потому что таковы женщины; опыт учит их всегда искать лучшей, более выгодной сделки. И как бы он ни возражал, что она не такая, он не мог не вспоминать, что Уитни уже не раз предавала его.
Однажды произойдет нечто… По совести говоря, он должен был догадаться, что именно это будет. Оба раза, когда Уитни его предала, она сделала это ради своего отца. А теперь сама жизнь ее отца оказалась в опасности, и по его вине, хотя он совершенно этого не хотел. Так что она имеет все основания возненавидеть его, объявить сделку между ними и их любовь недействительными, кончеными.
Вернувшись домой под утро уверенный, что Уитни не хочет его видеть, Гарнер решил провести остаток ночи в своей спальне. Здесь он и застал ее — она сидела на холодном полу около пустого камина с покрасневшими от слез и полными любви и печали глазами. Гарнер был совершенно не готов к этой встрече. Окинув жену взглядом, он обратил внимание на лежавшие у нее на коленях старые штаны и плащ и на свой раскрытый ранец. Он словно окаменел.
— Ты… ты не сжег их, — прошептала Уитни и увидела, как слезы навернулись ему на глаза.
— Я не мог уничтожить твои вещи, Уитни. — Гарнер сделал это признание из глубины своей души.
Это было правдой. Уитни закрыла глаза, и из-под ее плотно сжатых век потекли слезы. Гарнер ее любит и намеренно никогда не доставит боли ни ей самой, ни тем, кто ей дорог. Она встала и потянулась к нему.
— Гарнер!
Как только в его застывшее от страха сердце проникло сознание, что Уитни по-прежнему верит ему, он кинулся к ней и схватил ее в объятия. Крепко прильнув друг к другу в порыве вновь возрожденной любви, они целовали друг друга со слезами благодарности, прощения и счастья.
Через мгновение они оказались в холодной постели Гарнера, но едва замечали, что лежат на ледяных простынях. И потом, в согретых страстью мягких простынях, сбросив одеяло, они долго лежали, сплетясь телами.
— Что же нам делать, Гарнер? — спросила она, касаясь губами нежной поросли у него на груди, зная, что и он думает о том же.
— Честно говоря, пока не знаю. — Железный Таунсенд в нем содрогнулся от стыда при этом признании, но больше он не солжет ей ни разу, даже по оплошности. — Но постараюсь найти возможность помочь твоему отцу. — Он повернул к себе ее лицо и опять увидел слезы в глазах. — Я люблю тебя, моя ненаглядная Уиски. — Кивнув, она снова прильнула к его губам.
— Гарнер, ведь ты арестовал отца за то, что он варил виски и не платил налоги, — заметила она. — Как же получилось, что ему предъявляют обвинение в измене? — Опершись на локоть, Уитни смотрела на мужа.
Гарнер боялся этого вопроса. Но, взглянув в ее бездонные любящие глаза, он рассказал ей все, что знал, всю правду и ничего, кроме правды. Рассказал о злонамеренном замысле Гаспара и признался, что арестовал Блэка Дэниелса, потому что к этому его подталкивали долг и злость. Под ее серьезным взглядом он рассказывал о том, как страдали солдаты от того, что им задержали довольствие, не платили денег, какое разочарование все они испытывали, когда обнаружили, что им не с кем сражаться, о безуспешных попытках найти «предводителей» восстания, которых на самом деле вовсе не было. Затем объяснил, что его выбрали для выступления в суде, потому что правительство вконец отчаялось отыскать козла отпущения, чтобы устроить над ним показательный суд как над лидером «водочного бунта», тогда как чиновникам позарез необходимо и с политической, и с юридической точки зрения оправдать совершенно ненужный призыв в ополчение.

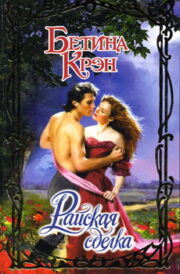
"Райская сделка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Райская сделка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Райская сделка" друзьям в соцсетях.