По-прежнему неразрывно, невероятно соединенные, они смотрели друг на друга, и их тела трепетали от приятных воспоминаний о любви, которой они только что предавались, от необъятности того, что только что с ними произошло.
Пораженный тем, что он совершил, и тем, что совершенно потерял контроль над собой, Квинн протянул руку к ее губам. Ее глаза вопрошали его о чем-то. Ему потребовалась вся воля, которую он выработал в себе, чтобы восстановить свою столь тщательно выстроенную оборону и спрятаться за нее. Его губы сжались в обычную насмешливую улыбку.
— Интересно, кто чей пленник, — сказал он холодно, его глаза мерцали, как осколки хрусталя.
Эти слова могли бы что-нибудь и означать. Но она была сражена его взглядом, который ранил больнее, чем любое оружие, проникая до самой глубины ее сердца. Она хотела услышать слова любви, ласки, она хотела теплоты. Хоть немного теплоты.
Мередит проглотила слезы. Я не заплачу, сказала она себе, хотя ей хотелось сделать именно это. Она отвернулась, чтобы он не увидел, какую рану он только что ей нанес.
Квинн вздрогнул. Он увидел явную боль в ее лице, в том, как поспешно она отвернулась от него, отдаляясь, разрывая союз их тел. Он сдержал те слова, что хотел произнести, боясь, что они не смогут передать всю глубину чувств. Да, он боялся этого. Он боялся не за себя, но больше — за нее. Он был Ионой, предрекавшим гибель всем, кто когда-то любил его.
— Мерри, что мы делаем друг с другом? — это было восклицание, а не вопрос, и он не ждал на него ответа. Квинн знал, что слова звучат протяжнее, чем обычно, что было верным знаком внутренней борьбы. И был рад, что никто, кроме него, об этом не знает. Его рука протянулась к непослушному золотому локону, лежавшему на спине Мередит.
Квинн секунду подержал его на ладони, как бы взвешивая, и вдруг выпустил. Он выбрался из постели, подошел к стенному шкафчику, и вытащив одну из своих шелковых рубашек, вручил ее Мередит, зная, что никуда не сможет уйти, пока она сидит голая в его постели. Затем нагнулся, взял брюки и быстро надел их, пока она не заметила, в какое возбуждение она опять его привела.
Мередит долго смотрела сначала на рубашку, потом на свое платье и думала, что ничего не сможет надеть, потому что руки все еще дрожат. Она взяла рубашку и медленно просунула руки в рукава. Рубашка, даже несмотря на то, что была чистой, по-прежнему хранила его запах. Как и простыня.
Она аккуратно застегнула рубашку, стараясь восстановить душевное равновесие и свое прежнее презрение к нему. Ей бы надо ненавидеть его еще сильнее, чем раньше, но она не могла. И она ненавидела за это себя, ненавидела и презирала. Было видно, что ему нет до нее дела. Слишком явно говорил об этом его взгляд. Ему надо было использовать ее, вытянуть из нее информацию, и для этого он применил самый жестокий способ. Она решила больше ничего не говорить, хотя пару минут назад едва ли не приняла противоположное решение.
Мередит видела, что Квинн стоит возле нее, его взгляд был, как всегда, отсутствующим, и изгиб его губ ничего не говорил. Словно все, что случилось, случилось только для нее. Мередит почувствовала пустоту внутри. Она была пустой и мертвой. Ей хотелось сделать что-нибудь, сказать, чтобы увидеть хоть какую-нибудь реакцию.
— Выродок, — обрушилась она на него, увидев большое пятно крови на простыне.
— Да, — холодно согласился он, взглянув на это пятно и мускул дернулся на его щеке. — А вы, милая Мерри, обманщица, прелестная обманщица. Бог знает, кем вы можете быть, но что вы не легкомысленная простушка — это точно.
— Не называйте меня Мерри, — она выпалила эти слова, рожденные такой глубокой болью, что и сама не могла понять, как такое можно вынести.
Квинн с удивлением посмотрел на нее.
— Никто не называл меня так, только Лиза и…
— И кто? — тихо спросил Квинн.
Она остановилась. Лицо ее стало замкнутым. Она чуть было не сказала — Пастор.
— Кто, Мередит? — Господи, ему надо было знать. Ему надо было знать, кого еще она допустила в свою жизнь. Он не мог удержать внезапную ревность.
— Кто? — повторил он мягко.
Мередит взглянула на него. Сейчас его глаза не были холодными, они горели, требуя ответа.
Квинн взял ее за руку, и Мередит поняла, что он не отпустит ее, пока не добьется ответа. А ей надо было убежать прежде, чем покажутся слезы, стоявшие в ее глазах.
— Я… знаю одного… священника… Пастора…
Квинн закрыл глаза, слушая ее. Он понял. Ему следовало понять раньше. Возможно, он догадывался, но не был готов признать. Он отпустил ее руку и подошел к картине, чтобы получше разглядеть ее. Сейчас он осознал, что не давало ему покоя. Отчасти это была подпись, такая же, как и на холсте в офисе у Бретта, а также своеобразный поворот реки. Он же видел его в Бриарвуде, но на памяти было еще столько речных изгибов, что именно об этом он как-то не подумал, пока она не упомянула о Пасторе… и еще он вспомнил лису на рисунке.
Черт побери людей и все их интриги. Он должен был хоть что-нибудь сказать, черт его возьми.
Мередит Ситон и была М. Сабр. Мередит Ситон оказалась у склада Элиаса, потому что она принадлежала к Подпольной дороге. Она знала Пастора, потому что он был агентом. А причиной была ее единокровная сестра Лиза.
Мередит говорила тогда о своей единокровной сестре с неподдельным страданием.
Он почувствовал, как восторг поднимается в его груди. Неудивительно, что они были так увлечены друг другом с самой первой секунды их встречи. Их многое связывало. Он все больше восхищался ей. Она хорошо сыграла роль дурочки, и это была дьявольски трудная игра в одиночку. У него в конце концов, был Кэм.
Но восторг вскоре сменился отвращением к самому себе. Похитив ее, он нанес непоправимый ущерб и ей, и ее притворству. И все же она отдала себя ему с радостью и страстью, в существование которых он не верил, и как неблагодарно вернул он этот дар!
Квинн обернулся к ней. Она сидела, поджав ноги и прижимаясь к стене каюты, в рубашке, которая только еще больше подчеркивала ее маленький рост. Она выглядела как одинокий потерявшийся ребенок, но он знал, что это не так. На Подпольной железной дороге ни дураки, ни дети не работали. Мередит Ситон должна быть необыкновенно храброй и умной.
Черт возьми, как же он ее обидел. От этого его глаза стали еще холоднее, на губах появилась усмешка. Его мучило ужасное, тяжелое чувство вины. Но Квинн спрятал его за привычной маской.
Когда он сделал несколько шагов в сторону Мередит, она еще полнее прижалась к стене. Квинн заметил в ее глазах искры гнева и обиды. Ее застывшая поза выражала яростное презрение. Он улыбнулся слабой, кривой, мрачной улыбкой, значение которой невозможно было расшифровать. Мередит Ситон была исключительна. Она была действительно замечательной девушкой.
Он сел и взял ее за руку, держа достаточно крепко, чтобы она не могла вырваться, хотя и старалась.
— Эта картина, — сказал он, кивая на радугу на стене, — была куплена в лавке, в Цинциннати. — Он увидел, как ее глаза расширились от нехорошего предчувствия. — Это была, — продолжал он тем же ровным тоном, — станция одной железной дороги. — Он почувствовал, что ее пальцы впились в его руку.
— Я пытался найти художника, — продолжал он, так как реакции от нее не последовало, — потому что эта работа совершенно… исключительна. — Мередит побледнела, и если у него и оставались сомнения, то сейчас они исчезли. — Я хотел найти его, чтобы купить еще какие-нибудь его картины, и сказать ему, как хорошо он рисует. Я говорю вам это сейчас, Мередит.
Мередит пристально смотрела на него. В его лице было какое-то напряжение, которого она не могла объяснить.
— Не понимаю, о чем вы говорите.
— Я видел лису на рисунке в домике некоего Пастора. Он один из моих друзей. — Квинн говорил, тщательно подбирая слова, надеясь, что она все подтвердит.
Мередит пристально смотрела в его глаза, больше не далекие, но, напротив, полные понимания и сожаления, которое пронзило ее насквозь.
— Так же, как и Элиас Спрейг, — мягко продолжал он. Ее спина была по-прежнему напряжена, глаза смотрели настороженно, а руки все еще старались освободиться. — К черту все, Мередит, — сказал он, ощущая боль оттого, что она не доверяет ему. Он сжал ее запястье, требуя согласия.
Если бы он обнял ее, если бы сказал те слова, что она так хотела услышать, она бы с радостью кинулась к нему. Но ничего подобного он не сказал, и она решила, что Квинн занимался с ней любовью только для того, чтобы выяснить то, что ему было нужно, а не потому, что испытывал к ней какие бы то ни было чувства. Не любовь, а чувство вины смягчило его голос.
Внезапно Мередит поняла, что ненавидит его.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — сказала она холодно и резко. — Да, я рисую, но я не знаю никакого… как вы сказали? М. — кто? — прежде, чем он ответил, она продолжила: — А я хочу вернуться в Новый Орлеан. Вы можете высадить меня в Натчезе. Я скажу, что меня похитили, но я убежала. Не хочу видеть вашего брата опозоренным.
— Мерри…
— Мередит, черт возьми, — сказала она спокойно. — Вы получили все, что хотели. — Она предоставила ему решать, что она имела в виду — то ли ее тело, то ли догадки о том, кем она была на самом деле. — А если вы не выпустите меня, то я закачу такое представление, которое и вы не забудете, и все остальные надолго запомнят. — Пронзительная душевная мука, полнейшее неприятие его поведения перекипели в гнев. Она дрожала от ярости. Она и прежде ощущала пустоту внутри себя, но такую, как сейчас, никогда. Никогда прежде ей не приходилось испытывать ощущение, будто ты устрица, которую вытряхнули из раковины и выставили на всеобщее обозрение.
Именно это он с ней и сделал. Он выставил на обозрение ее слабость, ее ранимость, ее потребность в нем. Никому еще не удавалось это сделать. Никому.
— Мередит, — пытался он понять, так как осознавал, что причиной боли, терзавшей ее, был он. Он вспомнил, как резко с ней обошелся после того, как занимался с ней любовью, — нет, после того, как они оба предавались любви, — похоже он не принял в расчет свое собственное сердце. Он вздохнул, увидев, как восторг в ее глазах сменился горьким недоверием. Одной рукой он все еще держал ее руку, а другую протянул к ее лицу, пытаясь без слов оправдаться, но ей были не нужны его оправдания. Она посмотрела на него с выражением, очень напоминающим отвращение, и выдернула свою руку.

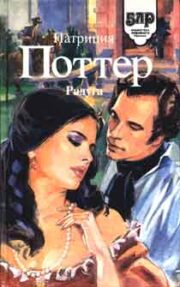
"Радуга" отзывы
Отзывы читателей о книге "Радуга". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Радуга" друзьям в соцсетях.