Верховный жрец облизал губы. Оранжевое пламя светильника разжижало мрак, из темноты проступало пунцовое ухо Варад-Сина и извилистая тонкая полоска — едва уловимый рисунок лица, мерцающий сквозь черноту фона.
— Как же ты нетерпелива, — с укором сказал он. — Документ уже изготовлен.
— Но я его не видела! — топнула ногой Анту-умми.
— Увидишь. Хочешь, прямо сейчас?
— Разумеется.
— Хорошо. Осталось только выяснить, какому храму рекомендовать Молодого писца. Можно в Сип-пар или Ктесифон — в храм Ану. Но я бы сказал, если мальчик не привык к интригам, ему лучше не лезть в змеиную нору. В храме Шамаша в Сиппаре теперь идет настоящая борьба за власть. Им будет не до него. А вот Ктесифон… — Варад-Син кашлянул в кулак, о чем-то подумал. — Пожалуй, нет, — произнес он. — Не стоит ввязываться в чужую драку. Могу рекомендовать его большому храму в Уре.
— Это слишком далеко! — Анту-умми резко вскинула голову.
— Далеко от Борсиппы? Ну, милая, тебе не угодишь, — жрец криво усмехнулся, — зато там мальчишка быстро пойдет в гору. Это я тебе обещаю.
— Все равно, мне нужно подумать, — возразила она. — Но ты изготовишь документ с печатью сегодня же. Я должна быть в этом уверена.
Он опустил веки в знак согласия.
— А я должен быть уверен в том, что ты благосклонна ко мне. И так будет и впредь.
— Что я могу? — вздохнула Анту-умми. — Увидеть скорые события твоей жизни, но не повлиять на них. Ты знаешь, чего я хочу!
— Знаю. Вероятно, ты станешь верховной жрицей своего храма, и…
— Я хочу в Вавилон!
— Милая, — произнес Варад-Син, сглатывая горький ком. — Мои возможности не безграничны. Но, быть может, ты сама рискнешь соперничать с принцессами? Хочешь убедиться, что царская кровь льется также, как кровь простолюдинов?
— Тс-с-с! — жрица бросилась к нему и зажала его рот ладонью. — Что ты говоришь! И у стен есть уши!
— Может быть, и есть, — Варад-Син усмехнулся. — Пусть опасаются те, кто замыслил злое. Мы же говорим только о любви.
Он убрал непослушную прядь с лица Анту-умми и коснулся губами ее левого виска. Женщина вздрогнула и отстранилась.
— В таком случае, вот тебе мое слово: Уту-ан должен быть в Вавилоне, в царском дворце. И ты это устроишь, жрец! Что касается меня, там поглядим.
— Варад-Син подмял ее под себя, придавил тяжелым Животом. Она закрыла глаза. И пока он над ней трудился, она видела Уту-ана, освещенного солнцем, в белой круглой шапке, с кудрями, рассыпанными по плечам. Анту-умми облегченно вздохнула, лишь когда жрец с тяжелым стоном пролил на покрывало семя.
Навуходоносор устал от праздника. Когда-то дни новогодних шествий были любимы им, но год от года они становились длиннее, а в этот раз затянулись невыносимо. Его угнетало долгое отсутствие сына. Думая о войне, Навуходоносор все чаще вспоминал пустыню Аравии, синий Иордан, где его воины поили коней.
После длительной осады он захватил Иерусалим и разрушил храм, почти все иудейское население увел в рабство.
После нескольких военных походов границы его государства охватывали области от Палестины и Сирии до Персидского залива. Стремительные и победоносные войны Навуходоносор вел именем Мардука.
— С твоей божественной помощью, о, Мардук, прошел я далекие страны, отдаленные горы от Верхнего до Нижнего моря. Ноги не знали отдыха. Это были суровые пути, непроходимые тропы, где трудно было ступать. Прошел я трудные дороги, страдая от изнеможения и жажды. Мятежников я разбил, врагов взял в плен. Стране я обеспечил порядок, народу — процветание, — так говорил Навуходоносор, и это была его молитва к великому божеству.
За сорок лет правления Навуходоносор превратил Вавилон в самый красивый, блистательный город в Месопотамии. Весть о его богатстве и великолепии распространилась по всему миру. Теперь царь смотрел на плоды своего труда.
Солнце закатилось как-то сразу. Нежность немого вечера с пирамидами теней на гладких стенах была смята, сбита с ног бешеной ветреной ночью. Он слышал даже, как шумят сады, разбитые тут и там в дворцовом комплексе, точно был один. Но голосили флейты, бил барабан, танцоры выделывали что-то невообразимое, подергивая, точно женщины, плечами и бедрами. Сверкали клинки в их руках и переливались, точно крылья стрекоз.
Молодая ночь рвалась во дворец с открытой балюстрады, отдергивая прозрачные темные занавески. Дул сухой жаркий ветер, ночь — гибкая растрепанная блудница — швыряла горсти мелкого песка. Плавно кружили в воздухе белые и алые лепестки, и занавеска прорвалась, зацепившись за пику неподвижного воина с глазами, как ночное небо Месопотамии.
Улыбались девушки гарема с гладкими и тонкими руками, украшенными кольцами и запястьями. Их волосы были подняты у висков и заколоты гребнями из слоновой кости. Навуходоносор смотрел со спокойной снисходительностью в эти глаза, подведенные краской, Они должны быть сдержанно стыдливы — девушки его страны и принцессы дальних' земель; и они были таковы.
Это контрастировало с безумной разнузданностью танцовщиков и девочки в красных пеленах с открытым смуглым животом, вбежавшей в круг. Она обняла одной ногой танцовщика за талию, поднялась на носки, вытянулась, прильнула к нему, запрокинулась, он склонился к открытой шее, скользнул по ней языком с золотым колечком. Они не стояли на месте. Кружились, переливались. Раскрытая пятерня партнера скользила по ее спине, перенимая метаморфозы мышц, и от того, как она сводила лопатки, Навуходоносор испытывал желание застонать.
Наложницы сгрудились вокруг его кресла, лениво двигаясь, прикасаясь к нему, мигая сонными глазами с лихорадочным блеском, готовые к капризам царя, к любовной горячке.
Танцоры бесновались. Было душно. Девочка немного устала. Розовые пятна проступили на щеках. Она надела на лицо плоский предмет, который все время держала в руке, и которого царь поначалу не мог разобрать — маску леопарда. Разыгрывалась сцена охоты. Она неслась по кругу, мужчины пытались ее схватить, сорвать покровы, лоскуты красной мягкой кожи, обнажить девственное тело, темную узкую полоску внизу плоского живота, и был момент, когда Навуходоносор испугался, что это на самом деле произойдет. Но он давно все понял. Уж он-то, он, старик, знал, что все — игра, как этот напоенный страстью танец, как не заточенные клинки, которыми никого нельзя ранить.
В дело вступили бубны. Навуходоносору поднесли кубок, и он отхлебнул горького напитка. Наложницы возбудились, их прикосновения стали настойчивее. Наконец леопарда изловили. Пронзительный визг флейт оборвался. Навуходоносор, не отрываясь, смотрел на имитацию соития, и в наступившей тишине ритмично звенели украшения девочки на запястьях, щиколотках, бедрах, маленькой груди. Она тяжело дышала. Танцор подхватил ее на руки. В этот момент она сорвала маску, и царь успел заметить, что у нее самой глаза леопарда.
Гибкая толпа упорхнула. Остался одинокий ковер с загнутым краем, на который выбежали жонглеры и глотатели огня, но он не смотрел больше.
Небесные стражники затворили за Шамашем врата в подземное царство, и наступила ночь. Алые ленты вечерней зари еще плыли, медленно изгибаясь в кобальтовой синеве, но вот исчезли и они. Адапа быстро шел, расчищая себе дорогу, расталкивая шумных, веселящихся людей, временами бежал, прижимаясь к стенам домов. Ветер дул в лицо. Он щурился от теплой пыли, кружащей в воздухе, платье липло к коленям. Иногда в толпе мерещилась Ламассатум. И тогда он останавливался, прислушиваясь к громыханию сердца.
Юноша уже миновал Стопу бога, небольшой квартал гончаров, где мигали желтые фонари, и вышел на улицу ткачей. В глаза брызнул яркий свет, так, что он зажмурился, и продолжал идти, выставив вперед руку. Повсюду на улицах Вавилона устраивались представления по сюжетам мифов, где у Мардука было главная роль, разыгрывались волнения по поводу внезапного исчезновения бога.
Адапа злился на себя, что не успел укрыться от очередной процессии. Кружились и визжали девушки с лентами в волосах. Какой-то толстяк в полосатом переднике, с животом, как бочка, трусил верхом на осле. За ним поспешал почетный эскорт — изрядно захмелевшие мужчины и женщины тащили кувшины с вином.
Толпа налетела, как вихрь, его толкали, увлекали за собой, факелы на ветру разгорались, издавая низкий гул. Адапа задыхался, стиснутый блестящими, беснующимися телами. Какая-то женщина на миг прижала его к стене и, обдавая парами дешевого пальмового вина, жарко поцеловала в губы. Адапа отпрянул, но она держала крепко и шептала, касаясь уха мокрыми губами:.
— Я могу пойти с тобой, если хочешь. Тут недалеко… я сделаю все, что тебе нравится… послушай меня, идем.
— Убирайся, — ответил Адапа, снимая ее руки со своих плеч. — Ты и без меня найдешь немало любовников.
Женщина рассмеялась, открывая ряд мелких зубов. Прибежал жонглер, подбрасывая на ходу факелы. В мелькающем оранжевом свете Адапе показалось, что зубы ее в крови.
— Дурачок, — проговорила она. — Я предлагаю тебе себя во имя богини любви, светлой Иштар.
— Я тороплюсь.
Уже была пройдена большая часть пути, но Адапу не покидало неприятное чувство, будто кто-то за ним идет, — доносчик из дома отца.
Справа возвышались сплошные стены Эсагилы, сливаясь с темным небом. Храм приближался с каждым шагом. Доносился запах ароматических веществ, которые жгли в плоских чашах перед алтарем. Голос храма не заглушал даже шум торговых рядов, выросших вдоль стен на время праздника.
Луна укрылась за ступенчатыми плечами Этеме-нанки. Адапа свернул в глухой переулок и ускорил шаг. Позади, по освещенному углу крайнего дома проносились тени.
На Пятачке Ювелиров было тихо. В окошке одной из мастерских горел огонек. Сердце Адапы колотилось. Он протер глаза — все та же махровая стена мрака, где каждый звук отделен от другого, где стопа сквозь тонкую подошву чувствует любое искажение разбитой вдребезги панели, пахнет дымом, сырой штукатуркой и какими-то душными ночными цветами. Адапе до крика хотелось отодвинуть мягкую заслонку мрака, увидеть Ламассатум такой, какой она была утром.

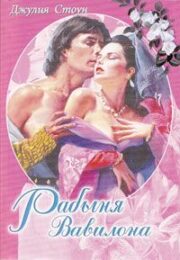
"Рабыня Вавилона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рабыня Вавилона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рабыня Вавилона" друзьям в соцсетях.