Теодорос взглянул на нее из-под кустистых бровей, как готовая укусить собака. Ей даже показалось, что он сейчас оскалит зубы, но он удовольствовался тем, что проворчал:
– Я должен исполнить свой долг перед страной!
– Тогда исполняйте его молча! Вы заметили девиз, высеченный над входом в этот дворец? Там написано: «Sustine vel’abstine».
– Я не знаю латыни.
– Это примерно значит: «Терпение рождает смирение». Это именно то, что я делаю с некоторого времени, и советую вам последовать моему примеру. Вы непрерывно ворчите. Судьбу не выбирают, ей подчиняются! Счастье еще, если она дает вам достойную стараний цель.
Лицо Теодороса стало кирпично-красным, тогда как в глазах сверкнули молнии.
– Я знаю это давным-давно, и не женщина будет указывать, как мне вести себя! – закричал он.
Затем под недовольным взглядом Атанаса, который, по всей видимости, не мог понять такой грубости обращения с дамой, он бросился из комнаты, с грохотом хлопнув дверью. Маленький интендант покачал головой и, в свою очередь, направился к двери, но глаза его улыбались, когда он поклонился перед уходом.
– Госпожа княгиня согласится со мной, – сказал он, – вышколенные слуги – редкость в наши дни.
Вопреки опасениям Марианны, которая думала, что он вернется с грубым платьем монахини, Атанас принес вместе с благословением матери-настоятельницы красивое греческое платье из плотного полотна, вышитое разноцветным шелком умелыми руками послушниц. Вместе с ним оказалась небольшая шаль, чтобы покрыть голову, а также несколько пар сандалий различных размеров.
Конечно, это ничуть не походило на изящные творения Леруа, которые заполняли сундуки Марианны и в настоящее время плыли в утробе американского брига, предназначенные вместе с фамильными драгоценностями Сант’Анна к продаже в пользу Джона Лейтона. Но после того, как она помылась, причесалась и оделась, Марианна все же нашла себя более похожей на ту, какой она себя предпочитала.
К тому же она чувствовала себя совсем хорошо – недомогание, заставлявшее ее так страдать на «Волшебнице», практически исчезло. Если бы ее не терзал постоянный неутолимый голод, она могла бы забыть, что ожидает ребенка и что время работает против нее. Потому что, если ей не удастся в ближайшее время избавиться от него, то позже это будет связано с риском для ее жизни.
Заходящее солнце пожаром охватило комнату. Внизу порт возобновил свою активность. Одни лодки выходили на ночную рыбную ловлю, другие возвращались, сверкая рыбьей чешуей. Но это были только рыбачьи лодки, ни один большой корабль, достойный везти посланницу, не появлялся, и Марианна, опершись о подоконник, чувствовала, как растет в ней такое же, как пожиравшее Теодороса, нетерпение. Она больше не видела его после шумного ухода. Он должен быть на набережной, среди людей острова, на котором оставили Ариадну, вглядывается в горизонт, поджидая появления марселей с зажженными сигнальными фонарями большого судна… Появится ли оно, это судно, которое белый голубь отправился искать для нее, чтобы отвезти в почти легендарный город, где ее ждала светловолосая султанша, на которую она отныне бессознательно возлагала все свои надежды?
Сто раз после того, как она у Мелины пришла в себя и ощутила вкус к жизни, Марианна повторяла то, что она сделает по прибытии: поскорей в посольство увидеть графа Латур-Мобура, добиться через него аудиенции у императрицы, или без него стучать во все двери, если понадобится, но донести свою жалобу до кого-нибудь могущественного, способного организовать охоту на пиратский бриг по всему Средиземному морю. Берберийцы, она это знала, были превосходными моряками, их шебеки очень быстроходны, а их средства связи почти такие же эффективные, как машины г-на Шаппа, которые так ценил Наполеон. Если поспешить, Лейтон может быть встречен в любом средиземноморском порту Африки, окружен свирепой сворой, которая заставит его пожалеть, что он родился, и его пленники будут спасены, если время еще не ушло.
Представив себе Аркадиуса, Агату и Гракха, Марианна почувствовала, что глаза ее увлажнились. Она не могла думать о них, не испытывая внутренней боли. Никогда она не поверила бы, когда они находились рядом, что они до такой степени могут быть дороги ей. Что касается Язона, она прилагала все силы и волю, чтобы изгнать его из мыслей, когда он в них появлялся, но это случалось слишком часто! Но как думать о нем, не предаваясь отчаянию, не отдавая сердце на растерзание когтям сожаления? Она больше не ощущала к нему неприязни ни за его жестокость, ни за причиненную ей боль, сознательно или бессознательно, ибо она честно признавала, что виной всему ее ошибка. Если бы она питала к нему больше доверия, если бы она не ощущала ужасный страх потерять его любовь, если бы она посмела открыть ему истину о ее похищении во Флоренции, если бы у нее было чуть-чуть больше смелости! Но со столькими «если бы» любой ребенок сможет за несколько часов переделать мир…
Тонкие пальцы поглаживали теплые камни, словно черпая из них немного утешения. Он столько повидал, этот старый дворец, чей строгий девиз советовал соглашаться со страданиями! Сколько уже раз солнце, которое там, внизу, погружалось в море, заливая его расплавленным золотом, смотрело в это окно! Но на какие лица, улыбки или слезы? Одиночество Марианны внезапно нарушилось безликими тенями, зыбкими формами, которые кружились в поднятой вечерним бризом янтарной пыли, словно утешая ее. Угасшие голоса всех женщин, которые жили, любили, страдали между этими почтенными стенами, где от славы остался только пепел, нашептывали ей, что не все замерло тут, в старом дворце, прикорнувшем на берегу острова, как печальная цапля, в чуть пробудившемся дворце, который скоро вновь погрузится в небытие сна.
А ее еще ждала череда дней, в которых, может быть, скажет свое слово любовь.
Амур? Кто первый дал его имя любви?..
Не лучше ли было назвать так агонию?..
Однажды Марианна где-то услышала эти строчки из стихотворения и улыбнулась. Это было давно, когда в воодушевлении своих семнадцати лет она верила, что любит Франсиса Кранмера. Кто же все-таки произнес их? Память ее, обычно непогрешимая, сегодня отказывалась назвать его, но это был кто-то, узнавший на себе…
– Если госпожа княгиня не сочтет за труд спуститься, господин граф ожидает ее к ужину.
Голос Атанаса, как всегда очень мягкий, подействовал на Марианну, словно трубы судного дня. Внезапно возвращенная на землю, она растерянно улыбнулась:
– Я приду… я сейчас же приду…
Она покинула комнату, тогда как оставшийся Атанас закрыл окно и задвинул за разлагающими воспоминаниями тяжелые деревянные ставни. Но когда она подошла к лестнице и протянула руку к белым мраморным перилам, отполированным сотнями рук, управляющий догнал ее.
– Могу ли я просить госпожу княгиню не удивляться ничему, что она увидит или услышит во время ужина? – попросил он. – Господин граф очень стар, и уже давно никто не входил сюда. Он очень польщен оказанной ему сегодня вечером честью, но… слишком много лет живет со своими воспоминаниями. В каком-то смысле они являются частью его, они присутствуют рядом с ним всегда. Госпожа могла заметить, что он всегда употребляет множественное число. Я не знаю, понятны ли мои объяснения.
– Не волнуйтесь, Атанас, – ласково сказала Марианна. – Меня уже давно ничто не удивляет!
– Но ведь госпожа княгиня так молода!
– Молода? Да… может быть! Но, без сомнения, менее, чем я выгляжу… Будьте спокойны, я не огорчу вашего старого господина и не отпугну его семейные призраки!
Тем не менее эта трапеза вызвала у нее странное ощущение нереальности. Не столько из-за старинного костюма из зеленого атласа, который хозяин надел в ее честь и, очевидно, носил при дворе дожа Венеции, сколько из-за того, что он практически не адресовал ей ни единого слова.
Он торжественно встретил ее у входа в большой зал, где поржавевшие доспехи несли караул перед осыпающимися фресками, и провел об руку вдоль бесконечного, загруженного старым серебром стола до кресла, стоявшего во главе стола справа от хозяйского, в которое он сам опустился.
На противоположном конце стола перед креслом, в точности подобном хозяйскому, стоял прибор, но на голубой тарелке старого родосского фаянса лежал полуоткрытый веер из перламутра с цветным шелком рядом с розой в хрустальной вазочке.
И на протяжении всего ужина старый сеньор обращался не к своей молодой соседке, а к невидимой хозяйке дома. Изредка он поворачивался к Марианне, стараясь вести разговор так, словно тень графини действительно поддерживала его с достоинством и остроумием. Он проявлял такую тонкую и старомодную галантность, что слезы выступали в глазах молодой женщины и горло перехватывало от волнения перед такой верностью любви, которая победила смерть, с трогательной настойчивостью воскрешая усопшую.
Таким образом гостья узнала, что графиню звали Фиоренца. И такой могучей была сила воображения мужа, что Марианна подверглась галлюцинации. Два раза она определенно заметила, что веер слегка колышется.
Время от времени она находила за украшенной гербом спинкой кресла взгляд Атанаса, стоявшего там в будничном черном костюме, который он оживил белыми перчатками. Но, несмотря на изобилие и свежесть подаваемых блюд, несмотря на волчий аппетит, напомнивший ей Аделаиду, Марианна была не способна оказать честь кушаньям. Она едва прикоснулась к ним, прилагая усилия, чтобы вести свою партию в этом призрачном концерте, и, терзаясь, молча молила Бога, чтобы он не продолжался слишком долго.
Когда наконец граф встал и, поклонившись, предложил ей руку, она с трудом удержала вздох облегчения, позволила довести себя до двери, едва удерживая безумное желание убежать, и дошла даже до того, что поклонилась и послала улыбку пустому креслу.
Атанас с канделябром следовал в трех шагах за ними.
На пороге она попросила графа не провожать ее дальше, настаивая на том, что не хочет прерывать его вечерний прием, и почувствовала, как сжалось у нее сердце при виде радостной торопливости, с какой он хотел вернуться в столовую. Закрыв наконец дверь, она обратилась к управляющему, который неуверенно посматривал на нее.

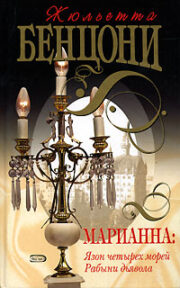
"Рабыни дьявола" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рабыни дьявола". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рабыни дьявола" друзьям в соцсетях.