– Мы возлагаем на вас наши надежды, премьер-министр. И на подобных вам людей во всем мире, – сказал он несколько официальным тоном.
– Спасибо, Фрэнсис. Я думаю подчас… у меня есть что тебе сказать…
Он остановился. Не сейчас! Слова сорвались у него с языка вопреки его желанию.
– И что же это?
– Да нет, ничего. Ничего существенного. И потом уже поздно. Как ты находишь машину? Она не выглядит вызывающе?
– Ну что ты. Вовсе нет. Это жемчужина. Приезжай снова, пока мы не уехали, ладно?
– Приеду.
Когда он достиг конца проезда, ведущего к шоссе, он взглянул в зеркало обратного вида. Фрэнсис все еще стоял с рукой, поднятой в прощальном жесте. Патриком овладел столь сильный импульс, что на какое-то мгновенье он готов был развернуть машину и вернуться назад. Но в следующую же секунду этот импульс исчез, и он сумел взять себя в руки и направить машину к дому.
Фрэнсис наблюдал за тем, как задние фонари, два красных лисьих глаза, скрылись за поворотом. Он постоял еще немного, пока далеко на шоссе передние фары не высветили узкое пространство дороги между деревьями.
Сколько же всего прошло и изменилось с тех пор, как он впервые познакомился с этим добрым и порядочным человеком в тот штормовой день девять лет назад! Храни его Господь! Он вел честную борьбу, как это принято говорить. И храни всех нас, Господи. Призри беззащитную Мейган, пожалуйста. И пусть Кэт смеется как прежде, пусть будет согрета чьей-то любовью. Он почувствовал подступивший к горлу комок.
С Морн Блю дул легкий ветерок, заставляя колокольчики гармонично звенеть. И он задержался на ступеньках веранды, не желая идти в дом. Он был заворожен этими звуками, своими собственными эмоциями и безукоризненной красотой ночи.
О, это, конечно, одно из красивейших мест на земле! Кричащие человеческие боль и страдания не совмещались со всем, что было здесь. Понятно и естественно страдать в голых пустынях и промерзлых северных тундрах, но здесь, в этом нежном теплом воздухе, под светлой луной, на этой благоухающей траве это было нелепо.
Наконец он вошел в дом выпить стакан теплого молока с горстью печенья: иначе он плохо спал. В комнате Мейган он поправил сползшее с нее одеяло и убрал на место свалившегося на нее плюшевого мишку. Он прислушался к ее еле слышному дыханию, понаблюдал за ее едва заметным шевелением. Какие сны пролетали сейчас в этой бедной головке? И вновь к его горлу подступил мешающий дышать комок.
В его комнате на прикроватном столике лежал новый журнал. Выпитое молоко и чтение вполне могло успокоить его разбушевавшееся сердце и, как он надеялся, подарить ему немного сна.
Часы на приборной доске показывали одиннадцать, когда маленький автомобильчик Патрика проскользнул между рядами пахучих кустов на последней миле освещенной луной дороги и свернул к большим воротам.
Выстрелом пробило ветровое стекло, и пуля попала ему прямо в лоб. Машина со скрежетом врезалась в гранитный столб, потом ее охватило пламя, она взорвалась и в течение нескольких секунд сгорела на лужайке перед домом правительства.
Глава 27
И вновь остров содрогался и метался в муках, точно огромное раненное морское чудовище. Целых три дня он боролся и кровоточил.
Международные агентства новостей выдавали друг за другом такие репортажи и сообщения:
«В то время, как лево– и праворадикальные группировки, сохранившиеся от режима Мибейна, обвиняют друг друга в убийстве премьер-министра Патрика Курсона, Сен-Фелис переживает новую волну насилия. Вчера верные правительству войска отразили попытку мятежников захватить радиостанцию, но в других районах ключевые объекты за истекшие двое суток переходили из рук в руки по три-четыре раза. Две воинские казармы полностью сгорели. Правительственные силы обнаружили значительное количество различного оружия, принадлежащего диссидентским элементам различного толка. В этих тайных складах найдено много бутылок с «коктейлем Молотова», гелигнитом, а также огнестрельное оружие нескольких видов».
«Грабежи и вандализм в Коувтауне постепенно берутся под контроль. Банки и магазины все еще обшиты досками и фанерой. Исполняющим обязанности главы государства мистером Фрэнклином Пэрришем введен комендантский час с шести часов вечера до шести часов утра.
Восстановить спокойствие на Сен-Фелисе удалось только на третью ночь после убийства премьера. Число убитых колеблется от пятнадцати до двадцати, зафиксировано такое же количество раненых. Арестовано свыше ста человек, схвачены лидеры мятежных групп, комендантский час отменен. Корреспонденты отмечают удивительно активное сотрудничество гражданского населения, уставшего от конфликтов и потрясенного этой трагедией.
Патрика Курсона хоронили на четвертый день утром. Собор в Коувтауне был переполнен, толпы народа толклись на его ступенях и заполняли прилегающую улицу.
– Он был человеком, всегда придерживающимся золотой середины, не испытывавшим ненависти, – начал литургию отец Бейкер несколько охрипшим голосом старого, уставшего от напряжения человека. – Скромными были его политические амбиции. Было много других людей, более честолюбивых и более искушенных в искусстве политики. Но то, чем обладал он, было бесконечно более ценным и редкостным: это внутренняя доброта и стремление идти праведным, рациональным путем.
На какое-то мгновение голос его дрогнул, осекся, но он продолжал:
– Кто же поступил с ним так? Это вопрос, который не дает нам покоя и который долго еще будет нас занимать.
По сути дела, думал Фрэнсис, те, кто сделал это, были как раз теми, кого он больше всех любил – Николас и Билл. И он посмотрел на переднюю церковную скамью, где Билл, прилетевший за несколько часов до этого откуда-то, где он пребывал, когда погиб Патрик, сидел рядом с Дезире и дочерьми, одетыми во все черное, и Клэренсом, который все время плакал.
– У обеих политических сторон были свои причины устранить человека, который столь твердо, столь достойно стоял на пути их устремлений, человека, так страстно верившего в ценность человеческой жизни и в возможность мирного решения проблем.
– Слава Богу, что мы покидаем это идиотское место, – прошептала Марджори на ухо Фрэнсису.
Он не ответил. Внезапно им овладел приступ тошноты. Его собственные эмоции, дополненные жаром тесно прижатых друг к другу тел, докапали его. Оказавшись под лучами солнца, лившимися сквозь блеклое стекло витража, он почувствовал сильное головокружение от вида бледно-лиловых пятен, двигавшихся по его коленям.
И, как ему показалось, эта жара истекала отовсюду. Ему почудился огонь, почти так, как это бывает, когда, идя где-то ночью, вдруг ощущаешь едкий запах дыма… Вот так же было, по-видимому, и той ночью. Но теперь в огне был уже не просто дом, в огне была планета: зловещими стали сами небеса над каждым континентом, горел сам воздух, сами цветы.
Должно быть, он издал какой-то звук или стон, потому что Марджори обернулась к нему с выражением удивления и тревоги на лице:
– Тебе нехорошо?
– Здесь так душно…
– Все уже почти закончено, слава Богу. Но посмотри, посмотри туда. Ты видишь, кто там?
И он увидел, что на одной из скамеек через проход от них сидит Кэт. На ней была маленькая круглая соломенная шляпка. Ее похоронная шляпа – так она ее называла, потому что она шла к любому платью и была украшена подобающим образом. Она хранила ее в чистой пластмассовой коробке на самой верхней полке стенного шкафа вместе со своей теннисной ракеткой и красным полосатым свитером. Ну да.
Он не видел ее уже две недели и никогда больше не увидит. И у него не будет времени, чтобы узнать ее полностью. Было странно подумать, что он действительно знал Марджори гораздо лучше! Марджори существовала в той среде, которая была ему знакома. Он не чувствовал себя как дома в этой среде, но он, по крайней мере, мог в ней ориентироваться. Марджори всегда была вполне предсказуема, тогда как в поведении Кэт ничего нельзя было предугадать. Было, однако, нечто такое, о чем можно было сказать заранее и не ошибиться. Неожиданно всплыла латинская фраза, усвоенная многие годы назад: Nihil humanum mihi alienum. «Ничто человеческое мне не чуждо». Но и животное тоже. И он не мог не улыбнуться, глядя на эту маленькую соломенную шляпку, вспоминая ее собак и ее птиц, ее приблудных кошек и ее порывы возмущения.
Теперь все встали, и приступ тошноты отступил. Заключающие обряд звуки органа полились сверху, гроб вынесли. Толпу на улице оттеснили в стороны, чтобы пропустить похоронную процессию. Стоя на верхней ступени, Фрэнсис смотрел на то, что обычно зовут людским морем, считая это приемлемым, как ему думалось, вполне подходящим здесь, для этого настоящего моря молодых людей. Сколько же их здесь! Со всего острова, со всей земли, и это было молодое море, кипящее от нетерпения.
Кто-то тронул его за руку. На этот раз перед ним было лицо старого человека, простеганное морщинами на щеках, лицо китайца.
– Вам случалось его знать?
– Да, и очень близко. А вам? Старику хотелось поговорить.
– Да, еще когда он был мальчишкой. Но я его хорошо помню. Это было в Свит-Эппл, где я держал лавку. Она называлась лавкой А Синга.
И он заложил кисти рук в рукава, прибегая к жесту, который он привез из своей страны более полувека назад.
– Он не из тех, кого легко забывают. Фрэнсис кивнул:
– Да, таких не забывают.
И он взглянул назад, на толпу людей, проникнутых печалью и уважением. Теперь они стояли спокойно, все до одного. Но в следующий раз такой удачи может и не быть.
– На кладбище я не пойду, – сказала Марджори. – Но полагаю, ты пойдешь, да?
– Да, и потом к ним домой. Семья переезжает снова к Клэренсу. Так захотела Дезире.
– Ну что ж, иди. Я же с ними никогда не была близко знакома. Меня кто-нибудь подвезет до дома.
В доме Клэренса уже хозяйничали соседки. Они отправили Дезире наверх отдыхать, а переднюю комнату отвели для мужчин. Когда Фрэнсис вошел туда, там уже разговаривали между собой Клэренс, Фрэнклин и Билл.

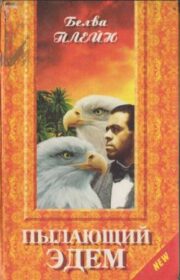
"Пылающий Эдем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пылающий Эдем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пылающий Эдем" друзьям в соцсетях.